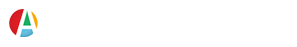Лучшие рассказы русских писателей (XX в.)
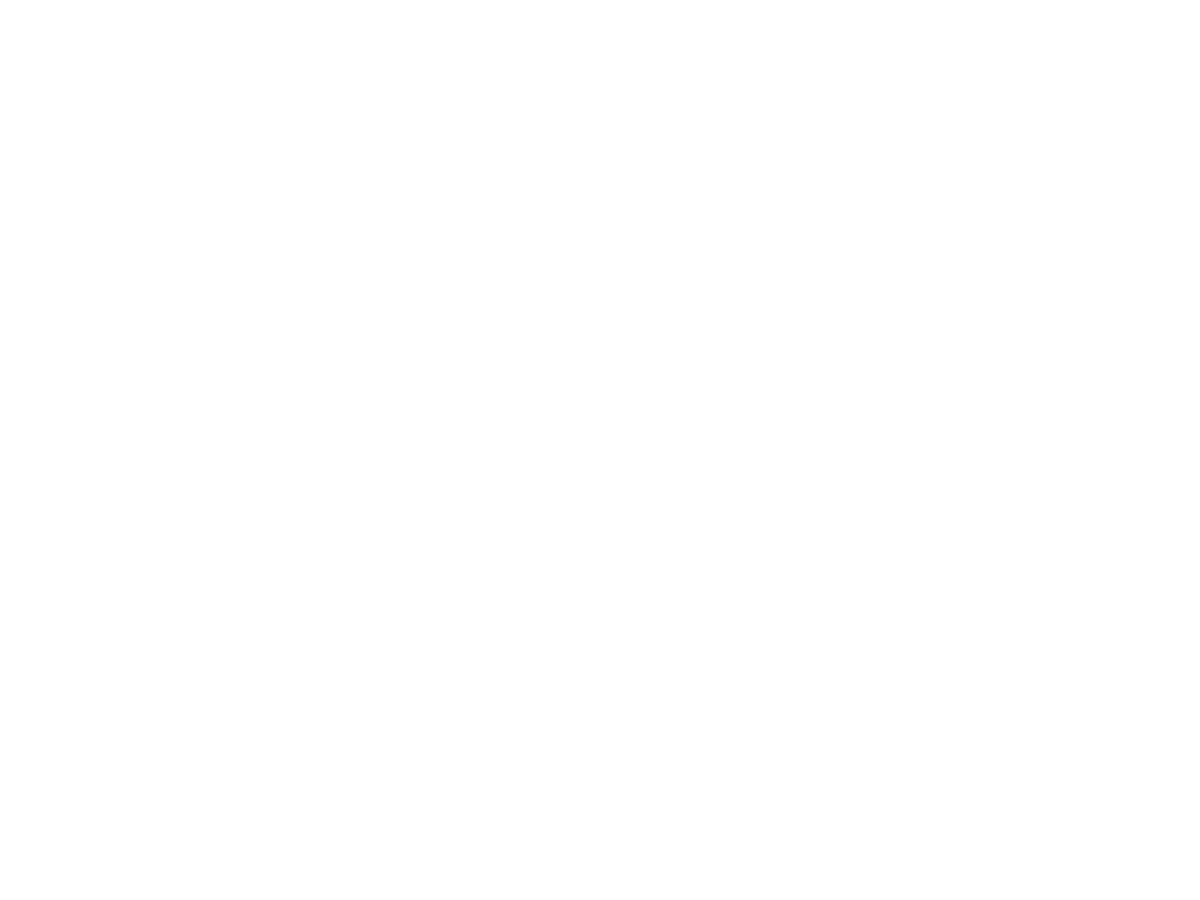
СПИСОК РАССКАЗОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
Александр ВАМПИЛОВ – «Сугробы»
Юрий НАГИБИН - «Зеленая птица с красной головой»
Джеффри Дин (Австралия) - «Капитан»
Александр ВАМПИЛОВ – «Сугробы»
Юрий НАГИБИН - «Зеленая птица с красной головой»
Джеффри Дин (Австралия) - «Капитан»
АННОТАЦИЯ
Создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще – река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу нас и наших близких» – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни – и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого. И выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
КУДА ТЕЧЕТ РЕКА ВРЕМЕНИ?
То покрывается толстым слоем бело-грязного льда зимой, и тогда про нее говорят: «Река встала», то практически бесшумно застывает в жарком летнем мо`роке, то бурным половодным потоком несется ранней весной, сметая все на своем пути, то затихает и еле слышно журчит-перекатывается, словно ручей; как известно, реки постоянно находятся в движении. От своего устья до впадения в море или озеро, то вдруг меняя свой ход на обратный, обходя препятствия (символ, достойный подражания!), незаметно вбирая в себя притоки и мелкие русла, впадающие в нее, река неумолимо движется вперед. Как и время, в котором мы живем.
Именно поэтому, создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая, растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу» нас и наших близких – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого; выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
Ну, а какие могут быть воспоминания в год, предшествующий 80-летию Великой Победы, празднование которой мы будем отмечать в следующем, 2025 году. Конечно, мы будем вспоминать прежде всего наших родных и близких, эту Победу отвоевавших, добывших и подаривших родному дому. Помним ли мы наших дедов, помним ли их подвиг? Можем ли рассказать о них нашим внукам? И сможем ли мы объяснить смысл этой Победы внукам, которые уже считают 9 Мая выходным днем, «красным днем» в календаре, когда можно в очередной раз выехать за город на шашлыки.
Как это ни грустно (и совсем не смешно!), а память порою незаметно истирается, истончается. Как только это происходит, события в стране снова принимают критический поворот: словно напоминая нам об этом, из теней прошлого вдруг поднимается и оживает страшная опасность, которая может изменить ход событий. И снова – надо говорить о героизме, о сопричастности каждого к защите страны, о невозможности отсидеться в стороне. Надо говорить и вспоминать. Чтобы не забыть.
Я искренне благодарю всех авторов сборника, которые два месяца назад так активно откликнулись на наше предложение о создании литературного альманаха, посвященного воспоминаниям: кто-то достал старые дневники, давно лежащие в шкафах, кто-то сел за стол и написал то, что давно собирался. А кого-то эта идея вдохновила на написание целой книги воспоминаний (я имею ввиду Андрея Строкова и его книгу «Не только морские рассказы», которую мы анонсируем в этом номере на стр. 86).
«Единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения, – воспоминания. Этот банк никогда не прогорит», – так говорил поэт Евгений Евтушенко. А другой классик писал, что жизнь – это отрезок между воспоминаниями и мечтами. И, читая публикации в этом сборнике, я подумал, что, если у авторов такие яркие и незабываемые воспоминания, – значит и с мечтами у них все хорошо!
А, значит, впереди еще длинное, витиеватое и глубокое русло реки под названием «Жизнь», и нужно запастись вниманием и терпением.
«Я – в реке, пускай река сама несёт меня»*.
* Цитата из сказки «Ежик в тумане», С. Г. Козлов (1939-2010)
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще – река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу нас и наших близких» – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни – и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого. И выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
КУДА ТЕЧЕТ РЕКА ВРЕМЕНИ?
То покрывается толстым слоем бело-грязного льда зимой, и тогда про нее говорят: «Река встала», то практически бесшумно застывает в жарком летнем мо`роке, то бурным половодным потоком несется ранней весной, сметая все на своем пути, то затихает и еле слышно журчит-перекатывается, словно ручей; как известно, реки постоянно находятся в движении. От своего устья до впадения в море или озеро, то вдруг меняя свой ход на обратный, обходя препятствия (символ, достойный подражания!), незаметно вбирая в себя притоки и мелкие русла, впадающие в нее, река неумолимо движется вперед. Как и время, в котором мы живем.
Именно поэтому, создавая новый литературный сборник, посвященный воспоминаниям и мемуарам, мы не раздумывали долго о его названии. Река всегда символизировала течение жизни, ее необузданность, непокорность и... невозможность остановиться. И еще река символизирует маленькую частицу нашей жизни, которая, растворяясь в большом житейском море, тем не менее несет в него частицу каждого из нас.
Вот про эту «частицу» нас и наших близких – наш новый альманах. На страницах сборника «Река времени» авторы вспоминают своих близких, родных, дедушек, бабушек, интересные истории из своей жизни и делятся этими воспоминаниями с нашими читателями. Ведь поистине неповторима жизнь каждого, – столько в ней удивительного и яркого, смешного и печального, неожиданного и неповторимого; выкладывая эти мелкие цветные крупицы воспоминаний, словно огромный и замысловатый Орнамент Жизни, мы тем самым и создаем настоящую Историю. Ведь без наших воспоминаний эта история будет неполной!
Ну, а какие могут быть воспоминания в год, предшествующий 80-летию Великой Победы, празднование которой мы будем отмечать в следующем, 2025 году. Конечно, мы будем вспоминать прежде всего наших родных и близких, эту Победу отвоевавших, добывших и подаривших родному дому. Помним ли мы наших дедов, помним ли их подвиг? Можем ли рассказать о них нашим внукам? И сможем ли мы объяснить смысл этой Победы внукам, которые уже считают 9 Мая выходным днем, «красным днем» в календаре, когда можно в очередной раз выехать за город на шашлыки.
Как это ни грустно (и совсем не смешно!), а память порою незаметно истирается, истончается. Как только это происходит, события в стране снова принимают критический поворот: словно напоминая нам об этом, из теней прошлого вдруг поднимается и оживает страшная опасность, которая может изменить ход событий. И снова – надо говорить о героизме, о сопричастности каждого к защите страны, о невозможности отсидеться в стороне. Надо говорить и вспоминать. Чтобы не забыть.
Я искренне благодарю всех авторов сборника, которые два месяца назад так активно откликнулись на наше предложение о создании литературного альманаха, посвященного воспоминаниям: кто-то достал старые дневники, давно лежащие в шкафах, кто-то сел за стол и написал то, что давно собирался. А кого-то эта идея вдохновила на написание целой книги воспоминаний (я имею ввиду Андрея Строкова и его книгу «Не только морские рассказы», которую мы анонсируем в этом номере на стр. 86).
«Единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения, – воспоминания. Этот банк никогда не прогорит», – так говорил поэт Евгений Евтушенко. А другой классик писал, что жизнь – это отрезок между воспоминаниями и мечтами. И, читая публикации в этом сборнике, я подумал, что, если у авторов такие яркие и незабываемые воспоминания, – значит и с мечтами у них все хорошо!
А, значит, впереди еще длинное, витиеватое и глубокое русло реки под названием «Жизнь», и нужно запастись вниманием и терпением.
«Я – в реке, пускай река сама несёт меня»*.
* Цитата из сказки «Ежик в тумане», С. Г. Козлов (1939-2010)
Максим Федосов,
руководитель проекта литературных сборников
издательского сервиса «Новое Слово»
Печать собственной книги в издательстве
«Новое слово»
«Новое слово»
Многие наши авторы, освоив некоторый опыт работы с текстами, создав несколько произведений и опубликовав их в сборниках издательского сервиса выбирают путь создания собственной авторской книги. Иногда это может быть сборник рассказов, иногда - повесть или более крупная форма (роман). Мы готовим макет книги, обложку книги (предоставляются варианты), книга выпускается в соответствии с книгоиздательскими стандартами, с присвоением ISBN и ББК, сдачей обязательных экземпляров в Книжную палату. Далее издательство предлагает программу продвижения книги и ее продажи в магазинах. Участники Золотой команды имеют право на 10% скидку.
Уточнить цену печати 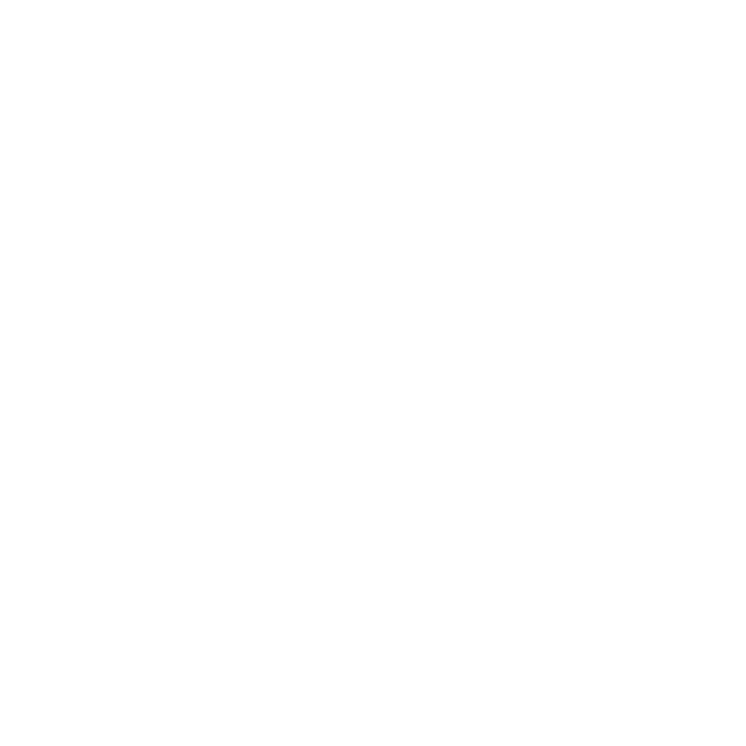
Александр ВАМПИЛОВ
Вампилов родился 19 августа 1937 г. в посёлке Кутулик, но считал своей малой родиной село Аларь (Аларский район Иркутской области). В 1955-1960 годах учился на филологическом факультете Иркутского государственного университета.
Первый рассказ Вампилова — тогда студента третьего курса — «Персидская сирень» был опубликован (под псевдонимом А. Санин) в 1957 году в газете «Иркутский университет». Второй рассказ «Стечение обстоятельств» был напечатан в той же газете в 1958 году, а затем в альманахе «Ангара». Этот рассказ дал имя и первой книге Александра Вампилова, которая вышла в свет в 1961 году и включала в себя юмористические рассказы и сцены. Автор многоактных пьес: "Прощание в июне", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске", одноактных пьес: "Дом с окнами в поле", "Сто рублей новыми деньгами", "Воронья роща", "Успех., автор более 200 рассказов (вышло 6 сборников рассказов). По пьесам и рассказам Вампилова поставлено более 20 экранизаций.
Вампилов родился 19 августа 1937 г. в посёлке Кутулик, но считал своей малой родиной село Аларь (Аларский район Иркутской области). В 1955-1960 годах учился на филологическом факультете Иркутского государственного университета.
Первый рассказ Вампилова — тогда студента третьего курса — «Персидская сирень» был опубликован (под псевдонимом А. Санин) в 1957 году в газете «Иркутский университет». Второй рассказ «Стечение обстоятельств» был напечатан в той же газете в 1958 году, а затем в альманахе «Ангара». Этот рассказ дал имя и первой книге Александра Вампилова, которая вышла в свет в 1961 году и включала в себя юмористические рассказы и сцены. Автор многоактных пьес: "Прощание в июне", "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске", одноактных пьес: "Дом с окнами в поле", "Сто рублей новыми деньгами", "Воронья роща", "Успех., автор более 200 рассказов (вышло 6 сборников рассказов). По пьесам и рассказам Вампилова поставлено более 20 экранизаций.
СУГРОБЫ
Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, — мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла.
Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепуха…
У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом… Зачем ему куда-то ездить»… Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, уговоры — все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма…
Где-то в стороне послышался собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.
Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно-радостный, женский: «…Парней так много халастых…» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.
От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, ярко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.
— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы… Это, можно сказать, судьба. Зайдите, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.
Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Феди. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.
— Зайдемте, честное слово, — пристает Федя.
— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.
— Дружки мои уже все напились, а я вот… весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?
— Ходила на свидание. Прощай, Федя.
Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.
В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где… Город большой… а я маленькая… Позвать кого-нибудь… Зарипыча позвать?»
Верочка сбегала и пригласила сторожа.
— Вы один, и я одна, — сказала она, — встретим Новый год вместе.
— Кому новый, а кому, может, последний, — сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.
— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом. — В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.
— При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.
— Как же так?
— Да так…
Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.
-Так ведь нельзя, может, было приехать, — сказал он.
— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.
Верочка отвернулась от стола, положила руку на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало ее жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам нуждался в утешении.
— Чего убиваться? — начал он строго. — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди… свидитесь… А куды вы денетесь? Звезды, к примеру, взять, над нами одни и те же… Куды денетесь. — Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь. Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.
— Андреевна! — позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.
— Вот тебе раз! Спит девка-то… Господи, чокнуться будет не с кем!
Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке, — она улыбалась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.
— Ишь ты какая… — пробормотал он, — намаялась… Пущай спит, что уж…
Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.
Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.
— А, лунатик! Все крутишь тут… Ну-ну. Ишь, вырядился… А не мерзнешь ты в этим колпаке, а? Не холодно тебе?..
— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое… Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого… Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?
— Дурак ты, Федька. Спит она.
— Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.
— Спит, говорю… Спит, и только.
Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.
Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег, — мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла.
Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепуха…
У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка, — ругала она себя, — давно надо было понять. Таких, как ты, — много, и они там, рядом… Зачем ему куда-то ездить»… Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, уговоры — все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма…
Где-то в стороне послышался собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.
Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно-радостный, женский: «…Парней так много халастых…» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.
От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, ярко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.
— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы… Это, можно сказать, судьба. Зайдите, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.
Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Феди. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.
— Зайдемте, честное слово, — пристает Федя.
— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.
— Дружки мои уже все напились, а я вот… весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?
— Ходила на свидание. Прощай, Федя.
Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.
В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где… Город большой… а я маленькая… Позвать кого-нибудь… Зарипыча позвать?»
Верочка сбегала и пригласила сторожа.
— Вы один, и я одна, — сказала она, — встретим Новый год вместе.
— Кому новый, а кому, может, последний, — сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.
— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом. — В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.
— При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.
— Как же так?
— Да так…
Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.
-Так ведь нельзя, может, было приехать, — сказал он.
— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.
Верочка отвернулась от стола, положила руку на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало ее жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам нуждался в утешении.
— Чего убиваться? — начал он строго. — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди… свидитесь… А куды вы денетесь? Звезды, к примеру, взять, над нами одни и те же… Куды денетесь. — Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь. Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.
— Андреевна! — позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.
— Вот тебе раз! Спит девка-то… Господи, чокнуться будет не с кем!
Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке, — она улыбалась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.
— Ишь ты какая… — пробормотал он, — намаялась… Пущай спит, что уж…
Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.
Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.
— А, лунатик! Все крутишь тут… Ну-ну. Ишь, вырядился… А не мерзнешь ты в этим колпаке, а? Не холодно тебе?..
— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое… Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого… Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?
— Дурак ты, Федька. Спит она.
— Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.
— Спит, говорю… Спит, и только.
Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.
Приглашаем авторов опубликовать свои рассказы в литературном сборнике «РАССКАЗ» (в 2026 г.)
На протяжении с 1970 по 1990 гг. в издательстве «Современник» выходили сборники лучших рассказов, которые по крупицам собирали издатели и выпускающие редакторы В.Сорокин, А.Карлин, А.Скалон, Н.Суворова.
В течение почти 20 лет в сборниках печатали свои рассказы В.Астафьев, Г.Бакланов, В.Белов, С.Залыгин,Ф.Искандер, А.Ким, Ю.Нагибин, В.Распутин и другие. К сожалению в 90-е годы издательство закрылось и сборники перестали выходить — впереди замаячила перестройка и альманахи хорошей короткой прозы уже мало кому были нужны. Но пришли 2020 годы, времена, когда мы снова обращаемся к прозе и писателям, когда мы вновь начинаем ценить настоящую современную литературу, и наше издательство решило продолжить традиции советского издательства — раз в год выпускать сборник хороших рассказов в твердом переплете. Приглашаем принять участие в его издании! Альманах выходит 1 раз в год. Каждому автору высылаются 1 (один) авторский экземпляр, после 5-ей публикации автору посвящается отдельная авторская страница на сайте издательства. Всех авторов мы ждем на ежегодной книжной выставке в Москве.
Опубликовать рассказ можно на странице
На протяжении с 1970 по 1990 гг. в издательстве «Современник» выходили сборники лучших рассказов, которые по крупицам собирали издатели и выпускающие редакторы В.Сорокин, А.Карлин, А.Скалон, Н.Суворова.
В течение почти 20 лет в сборниках печатали свои рассказы В.Астафьев, Г.Бакланов, В.Белов, С.Залыгин,Ф.Искандер, А.Ким, Ю.Нагибин, В.Распутин и другие. К сожалению в 90-е годы издательство закрылось и сборники перестали выходить — впереди замаячила перестройка и альманахи хорошей короткой прозы уже мало кому были нужны. Но пришли 2020 годы, времена, когда мы снова обращаемся к прозе и писателям, когда мы вновь начинаем ценить настоящую современную литературу, и наше издательство решило продолжить традиции советского издательства — раз в год выпускать сборник хороших рассказов в твердом переплете. Приглашаем принять участие в его издании! Альманах выходит 1 раз в год. Каждому автору высылаются 1 (один) авторский экземпляр, после 5-ей публикации автору посвящается отдельная авторская страница на сайте издательства. Всех авторов мы ждем на ежегодной книжной выставке в Москве.
Опубликовать рассказ можно на странице
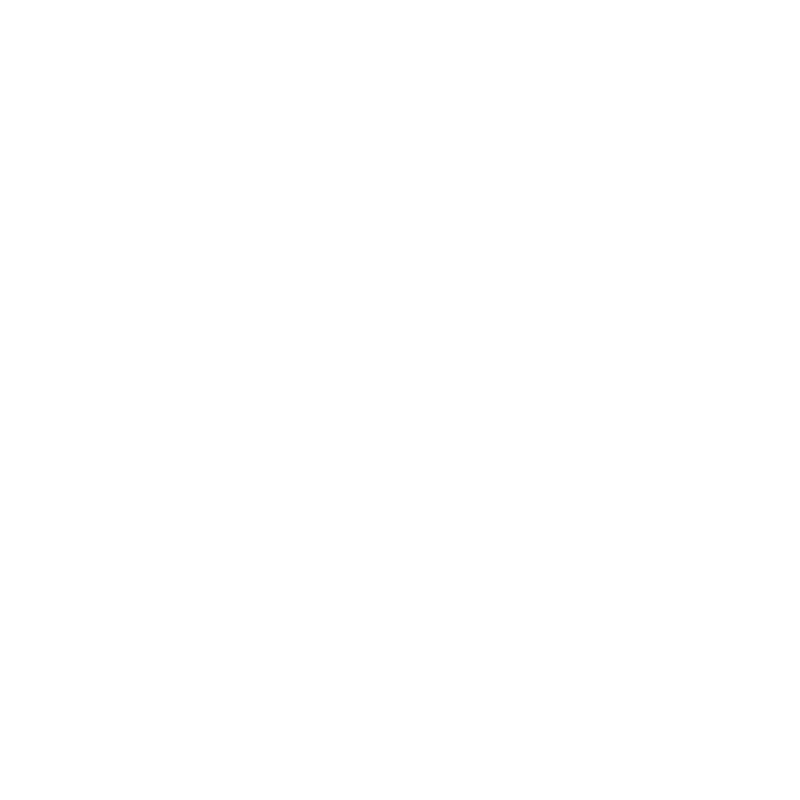
Литературный сборник рассказов «РАССКАЗ»
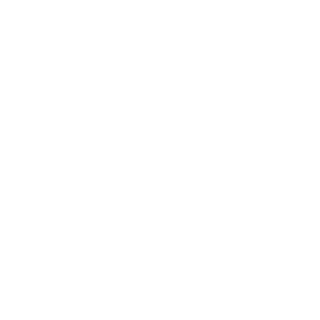
Герберт УЭЛЛС
Юрий Маркович Нагибин — известный советский писатель и сценарист, родившийся 3 апреля 1920 года в Москве. Его детство прошло в семье служащего. В годы Великой Отечественной войны Нагибин работал в военной газете, что оказало значительное влияние на его творчество. Первый рассказ Нагибина был опубликован в 1944 году в журнале «Краснофлотец». В 1946 году вышел его первый сборник рассказов «Человек с фронта». На протяжении своей карьеры он создал множество произведений, среди которых повести «Моя золотая тёща» и «Сирень», а также рассказы, вошедшие в сборник «Чистые пруды».
Нагибин также занимался переводами и писал сценарии для кино. Его произведения отличаются лиричностью и глубоким психологизмом. Писатель скончался 17 июня 1987 года, оставив после себя богатое литературное наследие.
Юрий Маркович Нагибин — известный советский писатель и сценарист, родившийся 3 апреля 1920 года в Москве. Его детство прошло в семье служащего. В годы Великой Отечественной войны Нагибин работал в военной газете, что оказало значительное влияние на его творчество. Первый рассказ Нагибина был опубликован в 1944 году в журнале «Краснофлотец». В 1946 году вышел его первый сборник рассказов «Человек с фронта». На протяжении своей карьеры он создал множество произведений, среди которых повести «Моя золотая тёща» и «Сирень», а также рассказы, вошедшие в сборник «Чистые пруды».
Нагибин также занимался переводами и писал сценарии для кино. Его произведения отличаются лиричностью и глубоким психологизмом. Писатель скончался 17 июня 1987 года, оставив после себя богатое литературное наследие.
ДВЕРЬ В СТЕНЕ
Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про "дверь в стене". Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа. Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной. - Он мистифицировал меня! - воскликнул я.- Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал. Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным. Пусть судит сам читатель! Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека - случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось: - У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться,- продолжал он, немного помолчав,- я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление. Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходятся говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. - Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? - внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент.- Так вот...- И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казалась ему глупыми, скучными и пустыми. Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. "Внезапно - заметила она,- он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним..." Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать. Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой "двери в стене", о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса. Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае для него, эта "дверь в стене" была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям. Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет. Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. - Я увидел перед собой,- говорил он,- ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены... Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца. По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, "совсем как взрослый", поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец - суровый, поглощенный своими делами адвокат - уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить. Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти. Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону. Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь. Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери. Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь. Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада. - В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно... Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ. - Видишь ли,- сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. - Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково, потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далек"" простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: "Вот и ты!" - потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку,- это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби. Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь. Он умолк. - Продолжай,- сказал я. - Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей-все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей - некоторых я помню очень ясно, Других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд - все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то... Он на секунду задумался. - Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязаллсь друг к другу. Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти - это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. "Возвращайся к нам! - вслед кричали они.- Возвращайся скорей!" Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения. Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью. Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением. - Продолжай,- сказал я,- мне понятно. - Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. - А дальше! - воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.- Дальше! - настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был - маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: "Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!" Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда? Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине. - О, как мучительно было возвращение! - прошептал он. - Ну, а дальше? - сказал я, помолчав минутудругую. - Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой. Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: "Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?" Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... М-да! Разумеется, за этим последовал суровый допрос,- мне пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, гувернанткой. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез. К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: "Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!" Как часто мне снился этот сад во сне! Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю. Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении. - А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? - спросил я. - Нет,- отвечал Уоллес,- не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже? - Ну еще бы! - В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?
Месяца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Лионель Уоллес рассказал мне историю про "дверь в стене". Слушая его, я ничуть не сомневался в правдивости его рассказа. Он говорил так искренне и просто, с такой подкупающей убежденностью, что трудно было ему не поверить. Но утром у себя дома я проснулся совсем в другом настроении. Лежа в постели и перебирая в памяти подробности рассказа Уоллеса, я уже не испытывал обаяния его неторопливого, проникновенного голоса, когда за обеденным столом мы сидели с глазу на глаз, под мягким светом затененной абажуром лампы, а комната вокруг нас тонула в призрачном полумраке и перед нами на белоснежной скатерти стояли тарелочки с десертом, сверкало серебро и разноцветные вина в бокалах, и этот яркий, уютный мирок был так далек от повседневности. Но сейчас, в домашней обстановке, история эта показалась мне совершенно невероятной. - Он мистифицировал меня! - воскликнул я.- Ну и ловко это у него получалось! От кого другого, а уж от него я никак этого не ожидал. Потом, сидя в постели и попивая свой утренний чай, я поймал себя на том, что стараюсь доискаться, почему эта столь неправдоподобная история вызвала у меня такое волнующее ощущение живой действительности; мне приходило в голову, что в своем образном рассказе он пытался как-то передать, воспроизвести, восстановить (я не нахожу нужного слова) те свои переживания, о которых иначе невозможно было бы поведать. Впрочем, сейчас я уже не нуждаюсь в такого рода объяснениях. Со всеми сомнениями уже давно покончено. Сейчас я верю, как верил, слушая рассказ Уоллеса, что он всеми силами стремился приоткрыть мне некую тайну. Но видел ли он на самом деле, или же это ему просто казалось, обладал ли он каким-то редкостным драгоценным даром или же был во власти игры воображения, не берусь судить. Даже обстоятельства его смерти не пролили свет на этот вопрос, который так и остался неразрешенным. Пусть судит сам читатель! Теперь я уже не помню, что вызвало на откровенность этого столь замкнутого человека - случайное ли мое замечание или упрек. Должно быть, я обвинил его в том, что он проявил какую-то расхлябанность, даже апатию, и не поддержал одно серьезное общественное движение, обманув мои надежды. Тут у него вдруг вырвалось: - У меня мысли заняты совсем другим... Должен признаться,- продолжал он, немного помолчав,- я был не на высоте... Но дело в том... Тут, видишь ли, не замешаны ни духи, ни привидения... но, как это ни странно, Редмонд, я словно околдован. Меня что-то преследует, омрачает мою жизнь, пробуждает какое-то неясное томление. Он остановился, поддавшись той застенчивости, какая нередко овладевает нами, англичанами, когда приходятся говорить о чем-нибудь трогательном, печальном или прекрасном. - Ты ведь прошел весь курс в Сент-Ателстенском колледже? - внезапно спросил он совсем некстати, как мне показалось в тот момент.- Так вот...- И он снова умолк. Затем, сперва неуверенно, то и дело запинаясь, потом все более плавно и непринужденно, стал рассказывать о том, что составляло тайну его жизни: то было неотвязное воспоминание о неземной красоте и блаженстве, пробуждавшее в его сердце ненасытное томление, отчего все земные дела и развлечения светской жизни казалась ему глупыми, скучными и пустыми. Теперь, когда я обладаю ключом к этой загадке, мне кажется, что все было написано на его лице. У меня сохранилась его фотография, на которой очень ярко запечатлелось это выражение какой-то странной отрешенности. Мне вспоминается, что однажды сказала о нем женщина, горячо его любившая. "Внезапно - заметила она,- он теряет всякий интерес к окружающему. Он забывает о вас. Вы для него не существуете, хотя вы рядом с ним..." Однако Уоллес далеко не всегда терял интерес к окружающему, и, когда его внимание на чем-нибудь останавливалось, он добивался исключительных успехов. И в самом деле, его карьера представляла собой цепь блестящих удач. Он уже давно опередил меня, занимал гораздо более высокое положение и играл в обществе такую роль, о какой я не мог и мечтать. Ему не было еще и сорока лет, и поговаривают, что будь он жив, то получил бы ответственный пост и почти наверняка вошел бы в состав нового кабинета. В школе он всегда без малейшего усилия шел впереди меня, это получалось как-то само собой. Почти все школьные годы мы провели вместе в Сент-Ателстенском колледже в Восточном Кенсингтоне. Он поступил в колледж с теми же знаниями, что и я, а окончил его, значительно опередив меня, вызывая удивление своей блестящей эрудицией и талантливыми выступлениями, хотя я и сам, кажется, учился недурно. В школе я впервые услыхал об этой "двери в стене", о которой вторично мне довелось услышать всего за месяц до смерти Уоллеса. Теперь я совершенно уверен, что, во всяком случае для него, эта "дверь в стене" была настоящей дверью в реальной стене и вела к вечным реальным ценностям. Это вошло в его жизнь очень рано, когда он был еще ребенком пяти-шести лет. Я помню, как он, очень серьезно и неторопливо размышляя вслух, приоткрыл мне свою тайну и, казалось, старался точно установить, когда именно это с ним произошло. - Я увидел перед собой,- говорил он,- ползучий дикий виноград, ярко освещенный полуденным солнцем, темно-красный на фоне белой стены... Я внезапно его заметил, хотя и не помню, как это случилось... На чистом тротуаре, перед зеленой дверью лежали листья конского каштана. Понимаешь, желтые с зелеными прожилками, а не коричневые и не грязные: очевидно, они только что упали с дерева. Вероятно, это был октябрь. Я каждый год любуюсь как падают листья конского каштана, и хорошо знаю, когда это бывает... Если не ошибаюсь, мне было в то время пять лет и четыре месяца. По словам Уоллеса, он был не по годам развитым ребенком: говорить научился необычайно рано, отличался рассудительностью и был, по мнению окружающих, "совсем как взрослый", поэтому пользовался такой свободой, какую большинство детей едва ли получает в возрасте семи-восьми лет. Мать Уоллеса умерла, когда ему было всего два года, и он остался под менее бдительным и не слишком строгим надзором гувернантки. Его отец - суровый, поглощенный своими делами адвокат - уделял сыну мало внимания, но возлагал на него большие надежды. Мне думается, что, несмотря на всю его одаренность, жизнь казалась мальчику серой и скучной. И вот однажды он отправился побродить. Уоллес совсем забыл, как ему удалось улизнуть из дома и по каким улицам Восточного Кенсингтона он проходил. Все это безнадежно стерлось у него из памяти. Но белая стена и зеленая дверь вставали перед ним совершенно отчетливо. Он ясно помнил, что при первом же взгляде на эту дверь испытал необъяснимое волнение, его влекло к ней, неудержимо захотелось открыть и войти. Вместе с тем он смутно чувствовал, что с его стороны будет неразумно, а может быть, даже и дурно, если он поддастся этому влечению. Уоллес утверждал, что, как ни удивительно, он знал с самого начала, если только память его не обманывает, что дверь не заперта и он может, когда захочет, в нее войти. Я так и вижу маленького мальчика, который стоит перед дверью в стене, то порываясь войти, то отходя в сторону. Каким-то совершенно непостижимым образом он знал, что отец очень рассердится, если он войдет в эту дверь. Уоллес со всеми подробностями рассказал, какие он пережил колебания. Он прошел мимо двери, потом засунул руки в карманы, по-мальчишески засвистел, с независимым видом зашагал вдоль стены и свернул за угол. Там он увидел несколько драных, грязных лавчонок, и особенно запомнились ему мастерские водопроводчика и обойщика; кругом валялись в беспорядке пыльные глиняные трубы, листы свинца, круглые краны, образчики обоев и жестянки с эмалевой краской. Он стоял, делая вид, что рассматривает эти предметы, на самом же деле трепетно стремился к зеленой двери. Внезапно его охватило необъяснимое волнение. Боясь, как бы на него снова не напали колебания, он решительно побежал, протянув руку, толкнул зеленую дверь, вошел в нее, и она захлопнулась за ним. Таким образом, в один миг он очутился в саду, и видение этого сада потом преследовало его всю жизнь. Уоллесу было очень трудно передать свои впечатления от этого сада. - В самом воздухе было что-то пьянящее, что давало ощущение легкости, довольства и счастья. Все кругом блистало чистыми, чудесными, нежно светящимися красками. Очутившись в саду, испытываешь острую радость, какая бывает у человека только в редкие минуты, когда он молод, весел и счастлив в этом мире. Там все было прекрасно... Уоллес задумался, потом продолжал свой рассказ. - Видишь ли,- сказал он нерешительным тоном, как человек, сбитый с толку чем-то совершенно необычным. - Там были две большие пантеры... Да, пятнистые пантеры. И, представь себе, я их не испугался. На длинной широкой дорожке, окаймленной с обеих сторон мрамором и обсаженной цветами, эти два огромных бархатистых зверя играли мячом. Одна из пантер не без любопытства поглядела на меня и направилась ко мне: подошла, ласково, потерлась своим мягким круглым ухом о мою протянутую вперед ручонку и замурлыкала. Говорю тебе, то был зачарованный сад. Я это знаю... А его размеры? О, он далек"" простирался во все стороны, и, казалось, ему нет конца. Помнится, вдалеке виднелись холмы. Бог знает, куда вдруг провалился Восточный Кенсингтон. И у меня было такое чувство, словно я вернулся на родину. Знаешь, в тот самый миг, когда дверь захлопнулась за мной, я позабыл и дорогу, усыпанную опавшими листьями каштана, с ее экипажами и фургонами, забыл о дисциплине, властно призывавшей меня домой; забыл обо всех своих колебаниях и страхах, забыл всякую осторожность; забыл и о повседневной жизни. В одно мгновение я очутился в другом мире, превратившись в очень веселого, безмерно счастливого ребенка. Это был совсем иной мир, озаренный теплым, мягким, ласковым светом; тихая ясная радость была разлита в воздухе, а в небесной синеве плыли легкие, пронизанные солнцем облака. Длинная широкая дорожка, по обеим сторонам которой росли великолепные, никем не охраняемые цветы, бежала передо мной и манила идти все дальше, рядом со мной шли две большие пантеры. Я бесстрашно погрузил свои маленькие руки в их пушистую шерсть, гладил их круглые уши, щекотал чувствительное местечко за ушами и забавлялся с ними. Казалось, они приветствовали мое возвращение на родину. Все время мною владело радостное чувство, что я наконец вернулся домой. И когда на дорожке появилась высокая прекрасная девушка, с улыбкой пошла ко мне навстречу и сказала: "Вот и ты!" - потом подняла меня, расцеловала, опустила на землю и повела за руку,- это не вызвало во мне ни малейшего удивления, но лишь чудесное сознание, что иначе и не могло быть, напоминая о чем-то счастливом, что странным образом выпало из памяти. Я помню широкие красные ступени, видневшиеся между стеблями дельфиниума; мы поднялись по ним на убегавшую вдаль аллею, по сторонам которой росли старые престарые тенистые деревья. Вдоль этой аллеи, среди красноватых, изборожденных трещинами стволов, высились мраморные памятники и статуи, а вокруг бродили ручные, очень ласковые белые голуби. Поглядывая вниз, моя спутница осторожно вела меня по этой прохладной аллее. Мне запомнились милые черты ее нежного, доброго лица с тонко очерченным подбородком. Тихим, задушевным голосом она задавала мне вопросы и рассказывала что-то, без сомнения, очень приятное, но что именно, я начисто забыл... Внезапно обезьянка-капуцин, удивительно чистенькая, с красновато-бурой шерсткой и добрыми карими глазами, спустилась к нам с дерева и побежала рядом со мною, поглядывая на меня и скаля зубы, потом прыгнула мне на плечо. Так мы оба, веселые и довольные, продолжали свой путь. Он умолк. - Продолжай,- сказал я. - Мне вспоминаются всякие мелочи. Мы прошли мимо старика, сидевшего в тени лавров и погруженного в размышления. Миновали рощу, где порхали стаи резвых попугаев. Прошли вдоль широкой тенистой колоннады к просторному прохладному дворцу, где было множество великолепных фонтанов и самых замечательных вещей-все, о чем только можно мечтать. Там я заметил много людей - некоторых я помню очень ясно, Других смутно, но все они были прекрасны и ласковы. И каким-то непостижимым образом я сразу почувствовал, что я им дорог и они рады меня видеть. Их движения, прикосновения рук, приветливый, сияющий любовью взгляд - все наполняло меня неизъяснимым восторгом. Вот так-то... Он на секунду задумался. - Я встретил там товарищей своих детских игр. Для меня, одинокого ребенка, это было большой радостью. Они затевали чудесные игры на поросшей зеленой травой площадке, где стояли солнечные часы, обрамленные цветами. И во время игр мы горячо привязаллсь друг к другу. Но, как это ни странно, тут в моей памяти провал. Я не помню игр, в какие мы играли. Никогда не мог вспомнить. Впоследствии, еще в детские годы, я целыми часами, порой обливаясь слезами, ломал голову, стараясь припомнить, в чем же состояло это счастье. Мне хотелось снова у себя в детской возобновить эти игры. Но куда там!.. Все, что я мог воскресить в памяти - это ощущение счастья и облик двух дорогих товарищей, игравших со мной. Потом появилась строгая темноволосая женщина с бледным серьезным лицом и мечтательными глазами, с книгой в руках, в длинном одеянии бледно-пурпурного цвета, падавшем мягкими складками. Она поманила меня и увела с собой на галерею над залом. Товарищи по играм нехотя отпустили меня, тут же прекратили игру и стояли, глядя, как меня уводят. "Возвращайся к нам! - вслед кричали они.- Возвращайся скорей!" Я заглянул в лицо женщине, но она не обращала на их крики ни малейшего внимания. Ее кроткое лицо было серьезно. Мы подошли к скамье на галерее. Я стал рядом с ней, собираясь заглянуть в книгу, которую она открыла у себя на коленях. Страницы распахнулись. Она указывала мне, и я в изумлении смотрел: на оживших страницах книги я увидел самого себя. Это была повесть обо мне; в ней было все, что случилось со мной со дня моего рождения. Я дивился, потому что страницы книги не были картинками, ты понимаешь, а реальной жизнью. Уоллес многозначительно помолчал и поглядел на меня с сомнением. - Продолжай,- сказал я,- мне понятно. - Это была самая настоящая жизнь, да, поверь, это было так: люди двигались, события шли своим чередом. Вот моя дорогая мать, почти позабытая мною, тут же и отец, как всегда непреклонный и суровый, наши слуги, детская, все знакомые домашние предметы. Затем входная дверь и шумные улицы, где сновали туда и сюда экипажи. Я смотрел, и изумлялся, и снова с недоумением заглядывал в лицо женщины, и переворачивал страницы книги, перескакивая с одной на другую, и не мог вдоволь насмотреться; наконец я увидел самого себя в тот момент, когда топтался в нерешительности перед зеленой дверью в белой стене. И снова я испытал душевную борьбу и страх. - А дальше! - воскликнул я и хотел перевернуть страницу, но строгая женщина остановила меня своей спокойной рукой.- Дальше! - настаивал я, осторожно отодвигая ее руку и стараясь изо всех своих слабых сил освободиться от ее пальцев. И когда она уступила и страница перевернулась, женщина тихо, как тень, склонилась надо мной и поцеловала меня в лоб. Но на этой странице не оказалось ни волшебного сада, ни пантер, ни девушки, что вела меня за руку, ни товарищей игр, так неохотно меня отпустивших. Я увидел длинную серую улицу в Восточном Кенсингтоне в унылый вечерний час, когда еще не зажигают фонарей. И я там был - маленькая жалкая фигурка: я горько плакал, слезы так и катились из глаз, как ни старался я сдержаться. Плакал я потому, что не мог вернуться к моим милым товарищам по играм, которые меня тогда звали: "Возвращайся к нам! Возвращайся скорей!" Там я и стоял. Это уже была не страница книги, а жестокая действительность. То волшебное место и державшая меня за руку задумчивая мать, у колен которой я стоял, внезапно исчезли, но куда? Уоллес снова замолк и некоторое время пристально смотрел на пламя, ярко пылавшее в камине. - О, как мучительно было возвращение! - прошептал он. - Ну, а дальше? - сказал я, помолчав минутудругую. - Я был маленьким, жалким созданием! И снова вернулся в этот безрадостный мир! Когда я до конца осознал, что со мною произошло, безудержное отчаяние охватило меня. До сих пор помню, какой я испытал стыд, когда рыдал на глазах у всех, помню и позорное возвращение домой. Я вижу добродушного старого джентльмена в золотых очках, который остановился и сказал, предварительно ткнув меня зонтиком: "Бедный мальчонка, верно, ты заблудился?" Это я-то, лондонский мальчик пяти с лишним лет! К тому же старик вздумал привести молодого любезного полисмена, вокруг нас собралась толпа, и меня отвели домой. Смущенный и испуганный, громко всхлипывая, я вернулся из своего зачарованного сада в отцовский дом. Таков был, насколько я припоминаю, этот сад, видение которого преследует меня всю жизнь. Разумеется, я не в силах передать словами все обаяние этого призрачного, словно бы нереального мира, такого непохожего на привычную, обыденную жизнь, но все же... это так и было. Если это был сон, то, конечно, самый необычайный, сон среди белого дня... М-да! Разумеется, за этим последовал суровый допрос,- мне пришлось отчитываться перед тетушкой, отцом, няней, гувернанткой. Я попытался рассказать им обо всем происшедшем, но отец в первый раз в жизни побил меня за ложь. Когда же потом я вздумал поведать об этом тетке, она, в свою очередь, наказала меня за злостное упрямство. Затем мне настрого запретили об этом говорить, а другим слушать, если я вздумаю рассказывать. Даже мои книги сказок на время отняли у меня под предлогом, что у меня было слишком развито воображение. Да, это сделали! Мой отец принадлежал к старой школе... И все пережитое вновь всплыло у меня в сознании. Я шептал об этом ночью мокрой подушке и ощущал у себя на губах соленый вкус своих детских слез. К своим обычным не очень пылким молитвам я неизменно присоединял горячую мольбу: "Боже, сделай так, чтобы я увидел во сне мой сад! О, верни меня в мой сад. Верни меня в мой сад!" Как часто мне снился этот сад во сне! Быть может, я что-нибудь прибавил в своем рассказе, возможно, кое-что изменил, право, не знаю. Это, видишь ли, попытка связать воедино отрывочные воспоминания и воскресить волнующее переживание раннего детства. Между ним и воспоминаниями моего отрочества пролегла бездна. Настало время, когда мне казалось совершенно невозможным сказать кому-нибудь хоть слово об этом чудесном мимолетном видении. - А ты когда-нибудь пытался найти этот сад? - спросил я. - Нет,- отвечал Уоллес,- не помню, чтобы в годы раннего детства я хоть раз его разыскивал. Сейчас мне кажется это странным, но, по всей вероятности, после того злополучного происшествия из боязни, как бы я снова не заблудился, за каждым моим движением зорко следили. Я снова стал искать свой сад, только гораздо позже, когда уже познакомился с тобой. Но, думается, был и такой период, хотя это мне кажется сейчас невероятным, когда я начисто забыл о своем саде. Думается, в то время мне было восемь-девять лет. Ты меня помнишь мальчиком в Сент-Ателстенском колледже? - Ну еще бы! - В те дни я и виду не подавал, что лелею в душе тайную мечту, не правда ли?
Уоллес посмотрел на меня - лицо его осветилось улыбкой. - Ты когда-нибудь играл со мной в "северо-западный проход"?.. Нет, в то время мы не были в дружбе с тобой. Это была такая игра, продолжал он, в которую каждый ребенок, наделенный живым воображением, готов играть целые дни напролет. Требовалось отыскать "северо-западный проход" в школу. Дорога туда была простая и хорошо знакомая, но игра состояла в том, чтобы найти какой-нибудь окольный путь. Нужно было выйти из дому на десять минут раньше, завернуть куда-нибудь в сторону и пробраться через незнакомые улицы к своей цели. И вот однажды, заблудившись в каких-то закоулках по другую сторону Кампден-хилла, я уже начал подумывать, что на этот раз проиграл и опоздаю в школу. Я направился наобум по какой-то уличке, казавшейся тупиком, и внезапно нашел проход. У меня блеснула надежда, и я пустился дальше. "Обязательно пройду",- сказал я себе. Я миновал ряд странно знакомых грязных лавчонок и вдруг очутился перед длинной белой стеной и зеленой дверью, ведущей в зачарованный сад. Я просто оторопел. Так, значит, этот сад, этот чудесный сад был не только сном? Он замолчал. - Мне думается, что мое вторичное переживание, связанное с зеленой дверью, ясно показывает, какая огромная разница между деятельной жизнью школьника и безграничным досугом ребенка. Во всяком случае, на этот раз у меня и в помыслах не было сразу туда войти. Видишь ли... в голове вертелась лишь одна мысль: поспать вовремя в школу,- ведь я оберегал свою репутацию примерного ученика. У меня, вероятно, тогда явилось желание хотя бы приоткрыть эту дверь. Иначе и не могло быть... Но я так боялся опоздать в школу, что быстро одолел это искушение. Разумеется, я был ужасно заинтересован этим неожиданным открытием и продолжал свой путь, все время думая о нем. Но меня это не остановило. Я шел своей дорогой. Вынув из кармана часы и обнаружив, что в моем распоряжении еще десять минут, я прошмыгнул мимо стены и, спустившись быстро с холма, очутился в знакомых местах. Я добрался до школы, запыхавшись и весь в поту, но зато вовремя. Помню, как повесил пальто и шляпу... Подумай, я мог пройти мимо сада, даже не заглянув в калитку?! Странно, а? Он задумчиво посмотрел на меня. - Конечно, в то время я не подозревал, что этот сад не всегда можно было найти. Ведь у школьников довольно ограниченное воображение. Наверное, меня радовала мысль, что сад где-то неподалеку и я знаю дорогу к нему. Но на первым плане была школа, неудержимо влекущая меня. Мне думается, в то утро я был рассеян, крайне невнимателен и все время силился припомнить удивительных людей, которых мне вскоре предстояло встретить. Как это ни странно, я ничуть не сомневался, что и они будут рады видеть меня. Да, в то утро этот сад, должно быть, представлялся мне прелестным уголком, хорошим прибежищем для отдыха в промежутках между напряженными школьными занятиями. Но в тот день я так и не пошел туда. На следующий день было что-то вроде праздника, и, вероятно, я оставался дома. Возможно также, что за проявленную мною небрежность мне была назначена какая-нибудь штрафная работа, и у меня не оказалось времени пойти окольным путем. Право, не знаю. Знаю только, что в ту пору чудесный сад так занимал меня, что я уже не в силах был хранить эту тайну про себя. Я поведал о ней одному мальчугану. Ну как же его фамилия? Он был похож на хорька... Мы еще звали его Пройда... - Гопкинс,- подсказал я. - Бот, вот, Гопкинс. Мне не очень хотелось ему рассказывать. Я чувствовал, что этого не следует делать, но все-таки в конце концов рассказал. Возвращаясь из школы, мы часть дороги шли с ним вместе. Он был страшный болтун, и если бы мы не говорили о чудесном саде, то все равно тараторили бы о чем-нибудь другом, а мысль о саде так и вертелась у меня в голове. Вот я и выболтал ему. Ну а он взял да выдал мою тайну. На следующий день, во время перемены, меня обступило человек шесть мальчишек постарше меня. Они подтрунивали надо мной, и в то же время им не терпелось еще что-нибудь разузнать о заколдованном саде. Среди них был этот верзила Фоусет. Ты помнишь его? И Карнеби и Морли Рейнольдс. Ты случайно не был с ними? Впрочем, нет, я бы запомнил, будь ты в их числе... Удивительное создание - ребенок! Я сознавал, что поступаю нехорошо, я был сам себе противен, и в то же время мне льстило внимание этих больших парней. Помню, мне было особенно приятно, когда меня похвалил Кроушоу. Ты помнишь сына композитора Кроушоу - Кроушоу-старшего? Он сказал, что ему еще не приходилось слышать такой увлекательной лжи. Но вместе с тем я испытывал мучительный стыд, рассказывая о том, что считал своей священной тайной. Это животное Фоусет даже позволил себе отпустить шутку по адресу девушки в зеленом. Уоллес невольно понизил голос, рассказывая о пережитом им позоре. - Я сделал вид, что не слышу,- продолжал он.- Неожиданно Карнеби обозвал меня лгунишкой и принялся спорить со мной, когда я заявил, что все это чистая правда. Я сказал, что знаю, где находится эта зеленая дверь, и могу провести их всех туда - какихнибудь десять минут ходу. Тут Карнеби, приняв вид оскорбленной добродетели, заявил, что я должен подтвердить свои слова на деле, а не то он меня хорошенько проучит. Скажи, тебе никогда не выкручивал руку Карнеби? Если да, ты тогда поймешь, что произошло со мной. Я поклялся, что мой рассказ - истинная правда. В то время в школе некому было защитить меня от Карнеби. Правда, Кроушоу пропищал что-то в мою защиту, но Карнеби был хозяином положения. Я испугался, взволновался, уши у меня разгорелись. Я вел себя, как маленький глупый мальчишка, и под конец. вместо того чтобы пойти одному на поиски своего чудесного сада, я потащил за собой всю компанию. Я шел впереди, веки у меня пылали, глаза застилал туман, на душе было тяжело, я сгорал от стыда, а за мной 'шагали шесть насмешливых, любопытных и угрожавших мне школьников... Мы не увидели ни белой стены, ни зеленой двери... - Ты хочешь сказать?.. - Я хочу сказать, что мне не удалось найти стены. я так хотел ее разыскать, но никак не мог. И позже, когда я ходил один, мне также не удавалось ее найти. В то время я так и не разыскал белой стены и зеленой двери. Теперь мне кажется, что все школьные годы я только и делал, что искал зеленую дверь в белой стене, но ни разу не увидел ее, веришь, ни единого разу. - Ну, а как обошлись с тобой после этого товарищи? - Зверски!.. Карнеби учинил надо мной лютую расправу за явную ложь. Помню, как я пробрался домой и, стараясь, чтобы домашние не заметили, что у меня заплаканные глаза, тихонько поднялся к себе наверх. Я уснул весь в слезах. Но я плакал не от обиды, я плакал о потерянном саде, где мечтал провести чудесные вечера. Я плакал о нежных, ласковых женщинах и ожидавших меня товарищах, об игре, которой я снова надеялся выучиться,- об этой чудесной позабытой игре... Я был уверен, что если бы тогда не рассказал... Трудное время наступило для меня, бывало, по ночам я лил слезы, а днем витал в облаках. Добрых два семестра я нерадиво относился к своим занятиям и получал плохие отметки. Ты помнишь? Конечно, ты не мог забыть. Ты перегнал меня по математике, и это заставило меня снова взяться за зубрежку.
Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил: - Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы. - Да, сэр? - сказал любезно кучер. - Э-э, послушайте! - воскликнул я.- Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте! Мы проехали дальше... Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене. "Если бы я остановил извозчика,- размышлял я,- то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру". Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь - дверь моей карьеры. Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло. - Да,- произнес он, вздохнув.- Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, во в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званный обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования... Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. "Как странно,- сказал я себе,- а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа". И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь,- ведь для этого пришлось бы сделать каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен... Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... я видел его еще три раза. - Как, сад? - Нет, дверь. И не вошел. Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска. - Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе. В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики,- несомненно, это была она! "Бог мой!" - воскликнул я. "Что случилось?"- спросил Хотчкинс. "Ничего!" - ответил я. Момент был упущен. - Я принес большую жертву,- сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента. - Так и надо! - бросил он на бегу. Но разве я мог тогда поступить иначе? Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее "прости". Момент был опять-таки крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер. Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом. Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю. В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса. Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хайстрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь... Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера - низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши. Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. "Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?"-спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так. и не ответил на этот вопрос. "Они подумают, что я сошел с ума,- размышлял я. - Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля..." Это перетянуло чашу весов, В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне. - И вот я сижу здесь. Да, здесь,- тихо сказал он. - Я упустил эту возможность. Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло... - Откуда ты это знаешь? - Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что таксе успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился. При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне: - Вот он, мой успех! Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате, за последние два месяца - да, уже добрых десять недель - я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретитьcя, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте одинодинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад... Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине. Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес. Я, как в тумане, теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело - как бы это сказать? - какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери. как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось?
Несколько минут мой друг молча смотрел на красное пламя камина, потом опять заговорил: - Я вновь увидел зеленую дверь, когда мне было уже семнадцать лет. Она внезапно появилась передо мной в третий раз, когда я ехал в Падингтон на конкурсный экзамен, собираясь поступить в Оксфордский университет. Это было мимолетное видение. Я сидел в кебе, наклонившись над дверцами экипажа, и курил папиросу, считая себя, без сомнения, безупречным светским джентльменом. И вдруг передо мной возникла стена, дверь, и в душе всплыли столь дорогие мне незабываемые впечатления. Мы с грохотом прокатили мимо. Я был слишком изумлен, чтобы сразу остановить экипаж. Мы проехали довольно далеко и завернули за угол. Затем был момент странного раздвоения воли. Я постучал в стенку кеба и опустил руку в карман, вынимая часы. - Да, сэр? - сказал любезно кучер. - Э-э, послушайте! - воскликнул я.- Впрочем, нет, ничего! Я ошибся! Я тороплюсь! Поезжайте! Мы проехали дальше... Я прошел по конкурсу. В тот же день вечером я сидел у камина у себя наверху, в своем маленьком кабинете, и похвала отца, столь редкая похвала, и разумные его советы все еще звучали у меня в ушах. Я курил свою любимую трубку, огромную трубку, неизбежную в юности, и раздумывал о двери в длинной белой стене. "Если бы я остановил извозчика,- размышлял я,- то не сдал бы экзамена, не был бы принят в Оксфорд и наверняка испортил бы предстоящую мне карьеру". Я стал лучше разбираться в жизни. Этот случай заставил меня глубоко призадуматься, но все же я не сомневался, что будущая моя карьера стоила такой жертвы. Дорогие друзья и пронизанный лучезарным светом сад казались мне чарующими и прекрасными, но странно далекими. Теперь я собирался покорить весь мир, и передо мной распахнулась другая дверь - дверь моей карьеры. Он снова повернулся к камину и стал пристально смотреть на огонь; на миг багровые отсветы пламени озарили его лицо, и я прочел в его глазах выражение какой-то упрямой решимости, но оно тут же исчезло. - Да,- произнес он, вздохнув.- Я безраздельно отдался своей карьере. Работал я много и упорно, во в своих мечтаниях неизменно возвращался к зачарованному саду. С тех пор мне пришлось четыре раза мельком увидеть дверь этого сада. Да, четыре раза. В эти годы мир стал для меня таким ярким, интересным и значительным, столько открывалось возможностей, что воспоминание о саде померкло, отодвинулось куда-то далеко, потеряло надо мной власть и обаяние. Кому придет в голову ласкать пантер по дороге на званный обед, где предстоит встретиться с хорошенькими женщинами и знаменитостями? Когда я переехал из Оксфорда в Лондон, я был юношей, подающим большие надежды, и кое-что уже успел совершить. Кое-что... Однако были и разочарования... Дважды я был влюблен, но не буду останавливаться на этом. Расскажу только, что однажды, направляясь к той, которая, как мне было известно, сомневалась, посмею ли я к ней прийти, я наугад пошел по кратчайшей дороге и очутился в глухом переулке близ Эрлс-Корт. Там я вдруг наткнулся на белую стену и знакомую зеленую дверь. "Как странно,- сказал я себе,- а ведь я думал, что это где-то в Кэмпден-хилле. Это заколдованное место так же трудно найти, как сосчитать камни Стонхенджа". И я прошел мимо, так как настойчиво стремился к своей цели. Дверь не манила меня в тот день. Правда, был момент, когда меня потянуло открыть эту дверь,- ведь для этого пришлось бы сделать каких-нибудь три шага в сторону. В глубине души я был уверен, что она распахнется для меня, но тут я подумал, что ведь это может меня задержать, я опоздаю на свидание, а ведь дело идет о моем самолюбии. Позднее я пожалел о том, что так торопился, ведь мог же я хотя бы заглянуть в дверь и помахать рукой своим пантерам. Но в то время я уже приобрел житейскую мудрость и перестал гоняться за недостижимым видением. Да, но все же тогда я был очень огорчен... Потом последовали годы упорного труда, и о двери я и не помышлял. И лишь недавно я снова вспомнил о ней, и мною овладело непонятное чувство: казалось, весь мир заволокла какая-то тонкая пелена. Я думал о том, что больше уж никогда не увижу эту дверь, и меня томила горькая тоска. Возможно, я был слегка переутомлен, а может быть, уже сказывается возраст: ведь мне скоро сорок. Право, не знаю. Но вот с некоторых пор я утратил жизнерадостность, которая помогает бороться и преодолевать все препятствия. И это теперь, когда назревают важные политические события и надо энергично действовать. Чудно, не правда ли? Я начинаю уставать от жизни, и все земные радости, какие выпадают мне на долю, кажутся мне ничтожными. С некоторых пор я снова испытываю мучительное желание увидеть сад. Да... я видел его еще три раза. - Как, сад? - Нет, дверь. И не вошел. Уоллес наклонился ко мне через стол, и, когда он заговорил снова, в его голосе звучала неизбывная тоска. - Трижды мне представлялась такая возможность. Понимаешь, трижды! Я давал клятву, что, если когда-нибудь эта дверь окажется предо мной, я войду в нее. Убегу от всей этой духоты и пыли, от этой блестящей мишуры, от этой бессмысленной суеты. Убегу и больше никогда не вернусь. На этот раз я уже непременно останусь там. Я давал клятву, а когда дверь оказывалась передо мной, не входил. Три раза в течение одного года я проходил мимо этой двери, но так и не вошел в нее. Три раза за этот последний год. Первый раз это случилось в тот вечер, когда произошел резкий раскол при обсуждении закона о выкупе арендных земель и правительство удержалось у власти большинством всего трех голосов. Ты помнишь? Никто из наших и, вероятно, большинство из оппозиции не ожидали, что вопрос будет решаться в тот вечер. И мнения раскололись, подобно яичной скорлупе. В тот вечер мы с Хотчкинсом обедали у его двоюродного брата в Бретфорде. Оба мы были без дам. Нас вызвали по телефону, мы тотчас же помчались в машине его брата и едва поспели к сроку. По пути мы проехали мимо моей двери в стене, она казалась совсем призрачной в лунном сиянии. Фары нашей машины бросали на нее яркие желтые блики,- несомненно, это была она! "Бог мой!" - воскликнул я. "Что случилось?"- спросил Хотчкинс. "Ничего!" - ответил я. Момент был упущен. - Я принес большую жертву,- сказал я организатору нашей партии, войдя в здание парламента. - Так и надо! - бросил он на бегу. Но разве я мог тогда поступить иначе? Во второй раз это было, когда я спешил к умирающему отцу, чтобы сказать этому суровому старику последнее "прости". Момент был опять-таки крайне напряженный. Но в третий раз было совсем по-другому. Случилось это всего неделю назад. Я испытываю жгучие угрызения совести, вспоминая об этом. Я был с Гаркером и Ральфсом. Ты понимаешь, теперь это уже не секрет, что у меня произошел разговор с Гаркером. Мы обедали у Фробишера, и разговор принял интимный характер. Мое участие в реорганизуемом кабинете стояло еще под вопросом. Да, да. Теперь это уже дело решенное. Об этом пока еще не следует говорить, но у меня нет оснований скрывать это от тебя... Спасибо, спасибо. Но позволь мне досказать тебе мою историю. В тот вечер вопрос висел еще в воздухе. Мое положение было крайне щекотливым. Мне было очень важно получить от Гаркера нужные сведения, но мешало присутствие Ральфса. Я из кожи лез, стараясь поддержать легкий, непринужденный разговор, не имевший прямого отношения к интересующему меня вопросу. Это было необходимо. Дальнейшее поведение Ральфса доказало, что я был прав, остерегаясь его... Я знал, что Ральфс распростится с нами, когда мы минуем Кенсингтон-Хайстрит, тут я и огорошу Гаркера неожиданной откровенностью. Иной раз приходится прибегать к такого рода уловкам... И вдруг в поле моего зрения на дороге вновь появилась и белая стена и зеленая дверь... Разговаривая, мы прошли мимо стены. Шли мы медленно. Как сейчас вижу на белой стене четкий силуэт Гаркера - низко надвинутый на лоб цилиндр, а под ним нос, похожий на клюв, и мягкие складки кашне; вслед за его тенью промелькнули на стене и наши. Я прошел в каких-нибудь двадцати дюймах от двери. "Что будет, если я попрощаюсь с ними и войду в эту дверь?"-спросил я себя. Но мне не терпелось поговорить с Гаркером. Меня осаждал целый рой нерешенных проблем, и я так. и не ответил на этот вопрос. "Они подумают, что я сошел с ума,- размышлял я. - Предположим, я сейчас скроюсь. Загадочное исчезновение видного политического деятеля..." Это перетянуло чашу весов, В критический момент мое сознание было опутано сетью светских условностей и деловых соображений. Тут Уоллес с грустной улыбкой повернулся ко мне. - И вот я сижу здесь. Да, здесь,- тихо сказал он. - Я упустил эту возможность. Три раза в этом году мне представлялся случай войти в эту дверь, дверь, ведущую в мир покоя, блаженства, невообразимой красоты и любви, неведомой никому из живущих на земле. И я отверг это, Редмонд, и все исчезло... - Откуда ты это знаешь? - Я знаю, знаю. Что же мне теперь остается? Идти дальше по намеченному пути, добиваться своей цели, мысль о которой так властно меня удержала, когда пробил желанный час. Ты говоришь, я добился успеха? Но что таксе успех, которому все завидуют? Жалкая, нудная, пустая мишура! Да, успеха я добился. При этих словах он с силой раздавил грецкий орех, который был зажат в его большой руке, и протянул его мне: - Вот он, мой успех! Послушай, я должен тебе признаться, Редмонд, меня мучает мысль об этой утрате, за последние два месяца - да, уже добрых десять недель - я почти не работаю, буквально через силу выполняю самые неотложные свои обязанности. Я не нахожу себе места. Меня томит глубокая, безысходная печаль. По ночам, когда меньше риска с кем-нибудь встретитьcя, я отправляюсь бродить по городу. Хотел бы я знать... Да, любопытно, что подумают люди, если вдруг узнают, что будущий министр, представитель самого ответственного департамента, бредет в темноте одинодинешенек, чуть ли не вслух оплакивая какую-то дверь, какой-то сад... Передо мной воскресает побледневшее лицо Уоллеса, его глаза с необычайным, угрюмым блеском. Сегодня вечером я вижу его особенно ясно. Я сижу на диване, вспоминая его слова, звук его голоса, а вчерашний вечерний выпуск вестминстерской газеты с извещением о его смерти лежит рядом со мной. Сегодня в клубе за завтраком только и было разговоров, что о его внезапной кончине. Его тело нашли вчера рано утром в глубокой яме, близ Восточно-Кенсингтонского вокзала. Это была одна из двух траншей, вырытых в связи с расширением железнодорожной линии на юг. Для безопасности проходящих по шоссе людей траншеи были обнесены сколоченным наспех забором, где был прорезан небольшой дверной проем, куда проходили рабочие. По недосмотру одного из десятников дверь осталась незапертой, и вот в нее-то и прошел Уоллес. Я, как в тумане, теряюсь в догадках. Очевидно, в тот вечер Уоллес прошел весь путь от парламента пешком. Часто во время последней сессии он шел домой пешком. Я так живо представляю себе его темную фигуру; глубокой ночью он бредет вдоль безлюдных улиц, поглощенный одной мыслью, весь уйдя в себя. Быть может, в бледном свете привокзальных фонарей грубый дощатый забор показался ему белой стеной? А роковая дверь пробудила в нем заветные воспоминания? Да и существовала ли когда-нибудь белая стена и зеленая дверь? Право, не знаю. Я передал эту историю так, как мне ее рассказал Уоллес. Порой мне думается, что Уоллес был жертвой своеобразной галлюцинации, которая завлекла его в эту дверь, как на грех, оказавшуюся не на запоре. Но я далеко не убежден, что это было именно так. Я могу показаться вам суеверным, даже чуточку ненормальным, но я почти уверен, что он действительно обладал каким-то сверхъестественным даром, что им владело - как бы это сказать? - какое-то неосознанное чувство, внушавшее ему иллюзию стены и двери. как некий таинственный, непостижимый выход в иной, бесконечно прекрасный мир. Вы скажете, что в конечном итоге он был обманут? Но так ли это? Здесь мы у порога извечной тайны, прозреваемой лишь немногими подобными ему ясновидцами, людьми великой мечты. Все вокруг нас кажется нам таким простым и обыкновенным, мы видим только ограду и за ней траншею. В свете наших обыденных представлений нам, заурядным людям, кажется, что Уоллес безрассудно пошел в таивший опасности мрак, навстречу своей гибели. Но кто знает, что ему открылось?
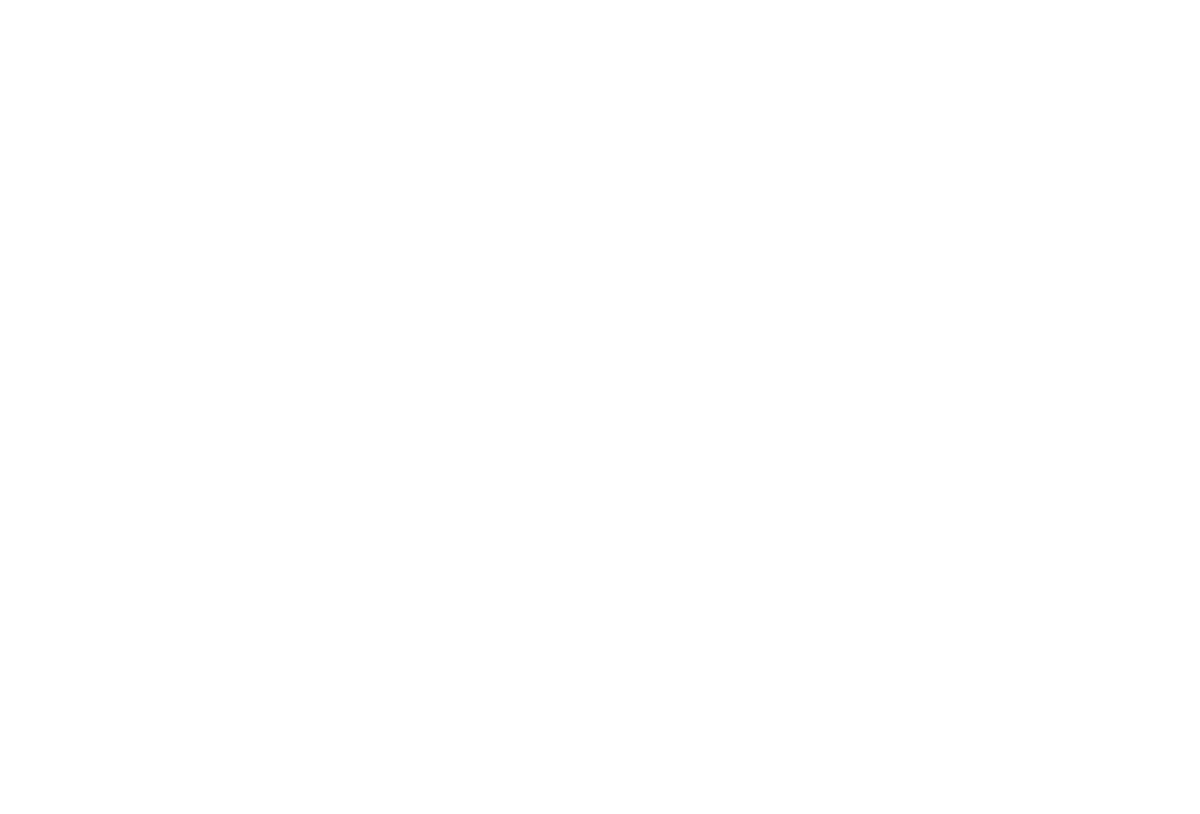
Джеффри ДИН
Geoffrey Field Dean — австралийский писатель, новеллист. Родился на острове Тасмания, там же окончил университет (философский факультет). Много путешествовал, познакомился с людьми разных профессий, их характеры нашли отражение в его творчестве. Написал более пятидесяти сценариев и рассказов, которые были удостоены премий на литературных конкурсах. В 1977 году в Австралии опубликован первый сборник Дина — «Страна чужаков и другие рассказы» («Strangers Country and Other Stories»). В него вошли двенадцать рассказов, объединённых темой одиночества и отчуждения, среди них самый популярный рассказ Дина — «The Captain» («Капитан»).
Geoffrey Field Dean — австралийский писатель, новеллист. Родился на острове Тасмания, там же окончил университет (философский факультет). Много путешествовал, познакомился с людьми разных профессий, их характеры нашли отражение в его творчестве. Написал более пятидесяти сценариев и рассказов, которые были удостоены премий на литературных конкурсах. В 1977 году в Австралии опубликован первый сборник Дина — «Страна чужаков и другие рассказы» («Strangers Country and Other Stories»). В него вошли двенадцать рассказов, объединённых темой одиночества и отчуждения, среди них самый популярный рассказ Дина — «The Captain» («Капитан»).
КАПИТАН
Море в конце концов выбросило его на берег, и он остался там, а при нем — два флотских мешка, походка вразвалку, татуировка на руках, моряцкий говор.
Приливы сменялись отливами, но без него уходили корабли в чужие края.
Он устремился прочь от берега, словно краб, попавший на сушу. Искал, где бы укрыться, дождаться, пока его вновь не подхватит прилив.
Убогий сарай из горбыля он превратил в красочный слепок своей жизни. Усеял всевозможными диковинами и сидел посередине, ждал.
Там были часы из Китая, украшенные резными деревянными фигурками, и каждый час в них звонил колокольчик — жидким, дребезжащим, однообразным звоном. К стене прибит персидский ковер. Шелковые японские скатерти преобразили старые ящики из-под масла в изящные тумбочки. Над кроватью висели испанские кастаньеты и плащ тореадора — когда-то Капитан выиграл его на пари. Кровать застлана покрывалом верблюжьей шерсти. Остальные вещи лежали, поблескивали, шуршали всюду, где только нашлось место: за перекладинами, между балками, над дверным косяком, на подоконнике. Чего там только не было: слоны из черного дерева, с ушами, как паруса, трубили, уставившись на сандаловых тигров. Из моря паутины торчали бальзовые каноэ. Зеленоглазые ящерицы — сущие дьяволята — злобно буравили взглядами обнаженных танцовщиц-китаянок, а те кружились, выступая одна за другой, и кокетливо, нескромно улыбались навстречу надменным взорам розовых, пузатых божков с острова Таити.
По стене протянулась картина: на всех парусах несется по волнам четырехмачтовый барк; были тут и скандинавские фиорды на двух гравюрах, и овальное, ручной росписи блюдо для жаркого, и еще невесть откуда взявшиеся, желтой тесьмой привязанные к крюку на стене четыре сверкающих латунных кольца. Неизбежная модели корабля в бутылке свисала на проводе с потолка, она беспрерывно поворачивалась туда-сюда, так что горлышко в точности указывало стороны света.
Посреди всего этого сидел Капитан, глядел вокруг и мечтал, и прошлое с каждым днем становилось все ярче, а настоящее тускнело в сумерках сознания.
Сюда и пришли за ним однажды, в феврале.
Муниципалитет решил навести порядок в районе порта, и сарай его мешал. Все утро мимо ездили автоцистерны, поливая набережную водой. Следом явилась армия людей с метлами — они вымели из сточных канав грязь, пыль, апельсиновые корки, рыбьи головы. Разваливающиеся, вымазанные нефтью баржи, отслужившие свое краны, уродливые, наспех сколоченные заборы были обречены. Повсюду красят, скребут, наводят глянец, морят газом крыс, отстреливают бродячих кошек. Капитана неминуемо должны были обнаружить. И столь же неминуемо — решить его судьбу.
Едва ступили на порог, он сразу понял, зачем они пришли. Впереди — приземистый бодрый толстяк с острым взглядом «отца города». «В парадных случаях, — подумал Капитан, — такой стягивает покрывала с уродливых статуй, перерезает ленточки, закладывает краеугольный камень, сажает дерево и с лопатой в руках важно застывает перед фотографом».
С ним — женщина, та самая, кого Капитан в мыслях всегда называл «веселой вдовой». Она давно следила за ним, пронизывала взглядом, и в глазах — жажда одарить кого-нибудь милосердием. Ястребом, изголодавшимся по чувствительности, высматривала она, где бы сотворить доброе дело. Это она следила, как он ковыляет взад-вперед по берегу. Это она однажды застала его врасплох, и пришлось делать вид, будто он сует что-то в мусорный ящик, а не вытаскивает. Он уже давно перестал стыдиться того, что роется на помойках, но если за тобой шпионят — это совсем другое дело. Когда тебя жалеют — хуже некуда. Он не мог убежать, скрыться с ее глаз и потому прикинулся, будто не видит ее — ковылял себе по-прежнему, притворяясь, будто жалость никак его не трогает, а самого аж тошнило при одной мысли о том, как сухие губы женщины смакуют радость сострадания.
Однажды он прикрикнул на нее: «Убирайся! Оставь меня в покое!» Он не решался при ней обшаривать просмоленные ящики в поисках драгоценных табачных крошек. А женщина то появлялась, то исчезала, как альбатрос, и он не мог разобрать, что таится в стеклянных бусинах ее глаз — доброта или злоба.
Третий, как и положено, — представитель закона в великолепном обличье молодого, румяного, немного робеющего полицейского в каске и чистеньком синем мундире. Такой от волнения еще и в штаны напрудит.
«Ах ты, дьявол тебе в душу!» — подумал Капитан и потрясающе метко угодил плевком прямо в щель между досками.
— Ничего, дамочка, прилив смоет, — сказал он женщине.
И растянулся на самодельном ложе.
— Ну, чего вам? Арестовать меня пришли?
Он поглядел в упор на полицейского, и тот густо покраснел.
— Хотим дать вам новый приют.
Мед и деготь, доброта и алчность, христианская любовь и — да, точно, привкус злобы. Ведь это женщина сказала.
— Капитан!.. Все зовут вас Капитаном, потому и я вас так называю. Это, вероятно, прозвище?
— Черта с два! — ответил он толстяку. — Капитан Стоун, командир почтового фрегата ее величества, Ближний и Дальний Восток, каботажная торговля в Тихом, все по высшему классу — вот я кто!
Толстяк прокашлялся:
— Значит, капитан Стоун… Для вашего же блага гражданский суд, действуя на основании закона, постановил переселить вас в дом для престарелых. Надеюсь, вы проявите благоразумие и подчинитесь этому решению.
— Ну и нечего болтать зря, — сказал Капитан.
Он сел и начал шнуровать башмаки. Женщина не сводила глаз с полупустой бутылки на столе. Рядом, в другую бутылку, всю залитую воском, точно рождественский пирог глазурью, была воткнута свеча.
— Налить стаканчик? — предложил он женщине. — Надо бы прикончить бутылку, тогда и будет у меня двухсвечовое освещение.
Он рванул шнурок так, что тот лопнул. Потом обернулся к полицейскому, вытащил из кармана деньги:
— Послушай, я не бродяга какой-нибудь!
Полицейский явно смутился.
— У меня под началом были парни постарше тебя. Бывало, подвахтенный тащит чай с ромом, будит меня: «Капитан, капитан! Вас зовут на мостик, сэр!» В шторм никто, кроме меня, с кораблем не мог справиться. Только ветер переменится, и все уже блюют со страху, тьфу, пропасть!
Толстяк вынул длинный лист бумаги. Обвел глазами сарай, чуть задержался взглядом на китайских танцовщицах.
— Понятно, Капитан, но это строение — собственность муниципалитета. Говоря юридическим языком, вас отсюда выселяют.
— Выселяют? Вон как? — Капитан ткнул пальцем в сторону полицейского и, передразнивая нарочито отчетливую речь толстяка, спросил: — А разве не он должен вручить мне эту бумагу? Хотя какая разница?!
Он встал, грохнув башмаками о деревянный пол, и доски отозвались почти так же, как некогда палуба корабля. Порой по ночам казалось — ветер кренит сарай, приносит с собой голоса дальних, ревущих штормами широт. Здесь воздух пропитан морской солью, а теперь…
Он принялся аккуратно укладывать свои пожитки во флотские парусиновые мешки. Покончив с этим, взглянул на женщину:
— Доброе дело, значит, задумали? А тут старый дурак со всякими причудами. Пустяк, конечно…
Он обвел их всех обвиняющим взором и продолжал:
— Да, пустяк… Только во время прилива, когда штормит, я знал, что море вот тут, у меня под ногами…
Его поселили в комнате под башней, и по воскресеньям прямо над головой гудели колокола. Минуты, часы, дни скатывались по зеленым лугам, будили эхо в скалах, а на старом доме шелестела мантия, сотканная из плюща и роз. Солнце дремало в зеленых закоулках, и под вязами и платанами отпечатывалась узорчатая тень листьев.
У ворот, живым воплощением одиночества, стоял эвкалипт — один-единственный в этом забытом богом месте.
Здешнее спокойствие раздирало душу Капитана острыми клыками нестерпимых мук.
По ураган воспоминаний не утихал. Былые дни по-прежнему жили в потаенных уголках памяти: бордели Неаполя, потасовки в Тилбери, бури и затишья, переливы волн и сверкающей зеркальной глади. Все помнил он и все ревниво скрывал от чужих, назойливых глаз — лишь по ночам и замыкаясь в молчании извлекал он прошлое и при лунном свете вновь перебирал на все лады. Не уйти было отсюда, из долины, но в грезах своих Капитан бороздил моря и океаны.
По ночам на своем одиноком ложе он всякий раз ждал, когда же под ним опять закачается палуба. Тело его обретало невесомость, воспаряло, неслось в бушующей тьме — живая частица бури. Сердце радостно колотилось, когда палубу кренило под ногами и волны с грохотом обрушивались на нос корабля; Капитан ворочался во сне, вскрикивал, звал своих — Верзилу Дэна, Черного Джека, Свистуна Сэма или Недоумка Тэйлора, — и в ответ ему одно за другим ухмылялись из-за пелены брызг их давно неживые, худые лица.
Заморские имена дрожали на его просоленных губах, шелестели в мозгу, подступали и вновь откатывались, будто океанский прибой, будто крупная зыбь на морских путях к Востоку — к Джакарте и Сингапуру, к Рангуну и Мадрасу, к Бомбею, на юго-запад от Адена — в Момбасу и Занзибар, в Дурбан и Кейптаун. А дальше, к западу и на север — в Монтевидео, Рио, на Ямайку, в Гавану, Корпус Крнсти, Новый Орлеан, на Багамы, в Нью-Йорк. И дальше, дальше… Заморские имена чередой проходили в его спящем, но беспокойном мозгу. Что ни ночь, оживают бури, и вот во взмокшее от пота лицо летит соленая морская пена, ветер ревет в ушах. И даже во сне упрямый разум, неистовый дьявол, лупит, барабанит по натянутым, изболевшимся нервам; страх захлестнул спящего, и бешено мчащийся, вспененный синий вал смыл его с палубы.
Впивая всем существом смерть, он канул на дно бурлящего океана, среди взбаламученного песка… и всплыл только наутро, когда лучи солнца упали на постель и воскресили его — и вновь перед ним постылый день, и вновь он пытается заглянуть в смутные глубины тускнеющего сознания. Все его мысли сходились на одной — бежать…
— Почему вы хотите уехать? — директор уставился на него из-за непроницаемых очков.
«Глаза как у рыбы, — подумал Капитан, — только не такие добрые».
— Я теперь пенсию получаю,— сказал он. — И сестра письмо прислала. Хочет, чтоб я к ней перебрался. Вдвоем, говорит, получше будет.
— Скажите, мистер Стоун, а где живет ваша сестра?
Безжалостный голос застал его врасплох.
— Не «мистер», а «Капитан», — поправил он. — Где живет? Ясное дело, у моря!
— У моря?
— Ну да.
— Вы соскучились по морю, Капитан?
Неужели он готов уступить?
— А мне все равно.
Правильно ли ответил?
— В карте записано, что у вас нет родственников Капитан.
— Знаете, как бывает. Не хотел я ее в это дело впутывать, да кто-то все равно сболтнул, что я здесь.
— Что ж, Капитан, попросите ее приехать, побеседовать с нами, — сказал директор. — Несомненно, мы, как-нибудь все уладим.
Капитан пошаркал ногами.
— Беседовать с вами, а?
— Да. Было бы желательно.
Они посмотрели друг на друга. Капитан хмурился, директор выжидал, прятал глаза за толстыми стеклами очков. Капитан порывисто наклонился:
— Послушайте, разойдемся по-хорошему. К примеру, нет у меня сестры — вам-то что? На набережную не вернусь, даю слово! Сниму себе комнатку где-нибудь в городе и не в свои дела соваться не стану. Сроду не совался. Тихонький буду, чтоб мне провалиться…
— Весьма сожалею, — сказал директор.
— Ни черта ты не сожалеешь! — Капитан вскочил. — Если б вправду сожалел, так не цеплялся бы. Я вам тут не ко двору, меня все ненавидят. Брось, наперед знаю, что скажешь, да только я правду говорю. Начну им рассказывать, в каких краях побывал, а они либо завидуют, либо говорят — брехня! От меня тут одно беспокойство, и сам я как рыба без воды. Все только обрадуются, если я уйду. У тебя ж у самого вроде корабля — надо, чтоб команда была довольна!
— Вас определили к нам по решению суда, Капитан. Притом врач говорит, что здоровье у вас не из лучших…
— Бюрократы! — рассвирепел Капитан. — Всю жизнь с вашим братом воевал и сейчас не сдамся. Чтоб вам сдохнуть!
— Капитан, на рождество мы каждый год устраиваем экскурсию на побережье, — успел директор сказать ему вдогонку.
Капитан хлопнул дверью и, вспомнив белый халат и глаза, увеличенные толстыми стеклами, смачно сплюнул:
— На побережье, чер-р-рт! «А ну, девочки, подберем подол! Ах-ах, осторожней, не замочите свои розовые штанишки!»
И затопал по коридору.
Летними ночами, когда на окрестных холмах горели костры, Капитану снились огни его прошлого. Порой так явственно высвечивалось оно, что Капитан кричал во сне, и соседи по комнате подскакивали на жестких постелях и в дрожащем отблеске костров недоуменно смотрели, как он мечется, заново переживая былое…
— Ух ты!
Вдали, по правому борту, вдруг вырвалось с оглушительным ревом огромное пламя и рассыпалось над морем.
Извержение Стромболи!
Пламя все выше, выше; необъятный фейерверк взмывает, чадя, под самые облака. Пламя — непостижимо как — висит между небом и землей; и вот последний, могучий порыв ветра гасит его — и опять мерцают вдали огоньки деревушки, все та же тусклая горсточка в бархате ночи…
В Неаполе какой-то субъект придержал Верзилу Дэна за локоть:
— Девочка хочешь, синьор? Очень красивый, очень молодой, чистый?
И оскалил великолепные зубы в застывшей, выжидательной улыбке.
— Смотри не заведи куда-нибудь, где к вину всякую дрянь подмешивают, не то башку к чертям проломлю! Парнишке это дело впервой, понял? И чтоб не подцепил он ничего такого! — сказал Верзила Дэн.
— Ну, валяй, парень! — сказал он еще. — Пора уж тебе.
— Что ты, Дэн? А, Дэн?
— Давай, смелей! Пора, не маленький!
Шли вверх, по узкой, темной, ступенчатой улочке, куда-то высоко над городом. Откуда ни возьмись, орава мальчишек, кривляются, клянчат подачку — не протолкнешься. Провожатый злобно замахнулся на какого-то мальчонку, тот вывернулся из-под руки, пронзительно верещит:
— Дяденьки! Дяденьки! Я вас отведу где получше! И подешевле! И девки чистые! Дяденьки!..
Капитан проснулся — перед ним все еще стояло заострившееся лицо мальчонки, черные глаза его запали, во взгляде мольба, руки, тощие, как палочки, торчат из рукавов куцей куртки. Еще не выветрился затхлый запах — смесь пота и табачного дыма. Еще слышался шорох нижних юбок, грешный, постыдный, — так явственно слышался, будто все это было вчера.
— Ну и трещали они, прямо сороки, — сказал он. — А визжали — как чайки; и любил же я их, всех до единой!
Стыд подступил к горлу, как тошнота при морской болезни, и кружили в голове слова — обломки кораблекрушения.
— Ох уж этот мир, — вздохнул Капитан, окончательно очнувшись от сна, — весь мир — у меня в голове!
Еще не раз взлетал он и проваливался вместе с кроватью, и снова его швыряло в пучину и возносило на гребень волны, и ветер бил в лицо, а проснувшись, он обводил очумелым взглядом комнату — найти бы хоть какой островок, где покой обрести…
— Почему вы убежали? — спросили его.
— Я не убегал, — сказал он. — Это что, допрос?
— Мы стараемся вам помочь, — сказал директор, — Вы не в тюрьме, Капитан!
— Так чего ж меня вернули!
Все уставились на него, и он силился принять вызов, дерзко встретить их взгляды. Искал слова — молодые, хлесткие, сильные, чтобы эти люди дрогнули, подчинились ему. Но на ум шли другие слова, слабые, жалостные, взывающие о милости, плаксивые.
— Чего ж вернули-то? — повторил он.
— Значит, вы все-таки убежали? Почему?
— Не убегал я, — выговорил Капитан.
Он попытался было выпрямиться, но не хватило сил: больно ныла спина.
— Я хотел спрятать имущество, — сказал он.
— То, что у вас в мешке?
— Да.
— А почему, Капитан?
— У меня воруют.
— Кто ворует?
— Джейкобс, и еще соседи по комнате.
— А, вы про эту историю с японским веером? Но мистер Джейкобс говорит, вы сами подарили ему веер. И что мистеру Сомнеру слоника из бивня сами подарили.
— Брехня! — сказал Капитан.
Обернулся к помощнику директора в надежде на сочувствие, но куда там!
— Капитан, мистер Джейкобс прежде служил в банке, — сказал помощник. — Он человек честный, все его уважают. Что ж, по-вашему, он — вор?
— Ваш Джейкобс — старый осел. И давно выжил из ума! — заявил Капитан, распрямил спину довольный — вот и прорвались нужные слова.
— Выжил из ума? — повторил директор. — Вы в самом деле считаете, что Джейкобс такой уж дряхлый и выжил из ума?
И Капитан разом сник, довольства как не бывало. В комнате стало вдруг нестерпимо жарко, душно. Он отвел взгляд от этих людей, посмотрел в окно: за листвой платанов заходило солнце.
Настало рождество, но к морю, как обещал директор, не поехали. Вместо этого стариков пригласили осмотреть рыбозавод.
— Кому нужна эта икра? — говорил Капитан он и в автобусе, на лоснящемся, удобном, пахнущем кожей сиденье, с достоинством прямил спину. — Рыбья икра точь-в-точь лягушачья — что ж, прикажете угощаться и делать вид, будто подали настоящую, черную?
— Там вовсе не обязательно икра, — отвечал сосед. — Мальки форели, они, знаете, того… Я был там с дочкой. Там такие садки, и в них — прорва форелей!
— А, как сардинки? — сказал Капитан. — Это, конечно, другое дело!
Оба сидели, точно древние истуканы, глядели, как деревья и кусты пробегают в раме закупоренных окон, за дымчатым стеклом, и не долетал до них запах свежей травы с покатых, огороженных лугов. Не проникал сюда и прохладный западный ветерок — в серебристых, теплых автобусах-коконах уносились они все дальше, мимо сараев и силосных башен, мимо зарослей боярышника и тополей, мимо рек и плотин, вперед и вперед, сквозь этот мир, ставший ровным и гладким под шуршащими шинами.
— Приятный пейзаж, — заметил сосед.
Рассекая островки тени, они мчались по шоссе, обсаженному тополями.
Капитан не отводил глаз от унылой зелени за окном. Эх, увидать бы голубые ели Норфолка, бубиэллу на скалах Сиднея, вереницу пальм, точно зонты осеняющих белые рифы, и финиковые пальмы на берегах Нила…
— Да, — отозвался он, — одно слово: родина.
И улыбнулся, но во рту ощутил легкую горечь…
— Мы же ехали к морю, — сказал он человеку в зеленой фуражке. — Я предпочел бы съездить к морю.
— А мы до него самую малость не доехали, — ответил сопровождавший их санитар. — До берега отсюда километров десять, не больше.
— Вот как! — удивился Капитан. — Всего десять!
— Точно, дружище! Разве ты не чуешь запах моря?
— Меня столько раз дурачили. Говорили, мне это мерещится. Но верно, чую! Да, это ветер с моря!
Санитар рассмеялся…
Когда стемнело, он знал, его уже наверняка ищут. Ну, суматоха! Он ухмыльнулся. В объятиях ночи он в безопасности. Вспомнились непроглядные ночи Аравии.
И снова он шел, снова плыл по дорогам памяти, нигде не задерживался подолгу, не возвращался вспять, плыл все дальше, дальше, пока не ощутил, что голова вот-вот лопнет, как перезрелая слива, и целый мир, заключенный в ней, — моря и реки, горы и озера, дороги, рельсы, туннели и мосты, дома, проселки — все это выплеснется наземь, к его распухшим ногам. Он снова жил высокой-мечтой, снова бродил и плавал по свету. Вновь сражался с теми, кого одолел в прошлом, и презрительно глядел сверху вниз на поверженных, силы возвращались к нему, и тело его вновь стало молодо. Да, этой ночью он вернулся наконец к берегам своей памяти, и опять молод, и жизнь кипит в нем, он готов родиться заново, он очистился, и скверна изгнана из его тела. И вечная мудрость открылась ему.
Он мог бы им все рассказать, подарить им весь свет, этим смертникам, воплощениям отчаянья, этим жалким существам, бледным, чуждым солнца и ветра, жиреющим, ко всему слепым и глухим, — людишкам, которые, кажется, затем и родились, чтобы весь век ждать смерти. Суетились по пустякам и ждали неведомо чего, как обезьяны в клетках, — ни о чем не заботились, знай почесывали зад.
Сколько они потеряли! Он бы порассказал им, дохнул в их бледные, одинаковые лица соленым ветром дальних стран, пускай бы они отшатнулись и слиняли бы их застывшие, сытые улыбки. Дурачье! Дурачье! Дурачье! Он сомкнул губы, затаил дыхание и ничего не рассказал им, запрятал свой прекрасный мир в карман и лишь по ночам украдкой любовался им. При лунном свете крохотная Вселенная выскальзывала у него из кармана. Он поворачивал ее и так и эдак, глядел, как мир этот трепещет у него на ладони, и улыбался спокойно, умудренно. А сейчас он громко рассмеялся во тьме и похлопал себя по карману.
— На мне мир держится! — крикнул он черным силуэтам деревьев.
Утром он снова был стар и слаб и оттого почти не заметил, как лес остался позади и перед ним возник город. Восходящее солнце осветило первый ряд домов. И вот под ногами асфальт, Капитан медленно бредет по нему, а над головой скрещиваются провода, поблескивая в свете утра. Он идет мимо телеграфных столбов — они гудят, будто это проносятся вести из дальних стран; что за тайны гудят в проводах? От ровных зеленых лужаек пахнет свежей травой, сладким ароматом цветов, смешанным с запахами росы и пыли.
В конце улицы стоял трамвай. Опять послышался слабым гул, как от телеграфных проводов, и Капитан тяжело забрался в вагон.
Кондуктор улыбнулся ему, щелкнул замком билетной сумки.
— Далеко едем?
— Я хочу к морю, — сказал Капитан.
— Купаться еще рановато, папаша, — усмехнулся кондуктор.
— Я не купаться, — сказал Капитан. — Просто хочу к морю.
Темная форменная одежда смутно пугала, его.
Они испытующе смотрели друг на друга. Взгляд кондуктора сделался жестче — может, он что-то заподозрил? Ну, ясно, вот еще один, кому ничего не понять… и Капитан протянул пригоршню монет.
— Сколько с меня?
— Размахнулся, папаша! Ты ж не всю колымагу покупаешь.
Кондуктор опять щелкнул замком, закрывая сумку, вернул Капитану сдачу. Протянул руку, дернул звонок.
— Я скажу, где вылезать.
И пошел, покачиваясь на ходу, к передней площадке. Голос его доносился оттуда сквозь стук колес и треск искр.
Капитан уселся на желтое сиденье, вагон мотало, гремели по рельсам колеса. Из дверей домов, точно заводные куклы, выходили люди. И оставались позади, исчезали с глаз долой. На большом перекрестке кондуктор сказал — пора сходить. Капитан оглядел пустынную улицу. Называется «Улица Альбатросов».
Трамвай, покачнувшись, двинулся прочь, но кондуктор еще успел высунуться из дверей, сказал:
— Море в том конце, папаша. Да ноги не промочи.
Капитан зашагал по длинной сизой дороге.
Повеяло соленым дыханием моря. «Ну, еще немного, — сказал он своим усталым ногам. — Только одолеем тот холм».
Дома остались позади, перед ним выросли дюны. Птицы взмывали ввысь, кружились в безумном небе, казалось, манят белые пальцы…
И вот он на гребне дюны, и оно открылось — море!
Солнце отражается в волнах, катится к нему по мокрому песку, ближе, ближе, прямо к ногам Капитана. Он шагнул навстречу, в самое солнце…
— Солнце! — громко сказал он. — Сердцу холодно, согрей.
Над головой пронзительно кричали птицы.
Море дышало, море вздымалось, падало к его ногам, а когда оно отступало, вода, журча, нашептывала ракушкам о былом, о несчетных минувших днях. Наконец-то он снова пускается в плаванье! Он ликовал, всей грудью вдыхал вольный воздух и ждал мига, который возвысит его до бессмертия. Он и море, равно совершенные, блистательные,— он столь же недоступен боли, невесом, и пусть его снова швыряют бури, пусть ласкает влюбленный ветер, пусть увлекает за собой, волею луны, прилив и мчит к солнцу, и он вплывет в самое солнце легким, неслышным золотым лучом.
Его подбрасывало на волнах, вертело, кренило, пока мир вокруг не замер навеки, и Капитан застыл между пучиной и небосводом. Неотторжимо…
— Какой-то обломок, с корабля, наверно, — сказала девочка и отбежала. На берегу простерлось нечто распухшее, полузасыпанное песком. Волна лениво лизнула худую бледную руку.
— Ой, — тихо сказала девочка.
Слабый ветерок тронул ветви прибрежных деревьев, что-то шепнул ей…
— Ой, что ж это…
Она с плачем бросилась бежать по зыбкому белому песку. Прочь от плеска, от моря — назад, в город.
Перевод В.Болотникова
Море в конце концов выбросило его на берег, и он остался там, а при нем — два флотских мешка, походка вразвалку, татуировка на руках, моряцкий говор.
Приливы сменялись отливами, но без него уходили корабли в чужие края.
Он устремился прочь от берега, словно краб, попавший на сушу. Искал, где бы укрыться, дождаться, пока его вновь не подхватит прилив.
Убогий сарай из горбыля он превратил в красочный слепок своей жизни. Усеял всевозможными диковинами и сидел посередине, ждал.
Там были часы из Китая, украшенные резными деревянными фигурками, и каждый час в них звонил колокольчик — жидким, дребезжащим, однообразным звоном. К стене прибит персидский ковер. Шелковые японские скатерти преобразили старые ящики из-под масла в изящные тумбочки. Над кроватью висели испанские кастаньеты и плащ тореадора — когда-то Капитан выиграл его на пари. Кровать застлана покрывалом верблюжьей шерсти. Остальные вещи лежали, поблескивали, шуршали всюду, где только нашлось место: за перекладинами, между балками, над дверным косяком, на подоконнике. Чего там только не было: слоны из черного дерева, с ушами, как паруса, трубили, уставившись на сандаловых тигров. Из моря паутины торчали бальзовые каноэ. Зеленоглазые ящерицы — сущие дьяволята — злобно буравили взглядами обнаженных танцовщиц-китаянок, а те кружились, выступая одна за другой, и кокетливо, нескромно улыбались навстречу надменным взорам розовых, пузатых божков с острова Таити.
По стене протянулась картина: на всех парусах несется по волнам четырехмачтовый барк; были тут и скандинавские фиорды на двух гравюрах, и овальное, ручной росписи блюдо для жаркого, и еще невесть откуда взявшиеся, желтой тесьмой привязанные к крюку на стене четыре сверкающих латунных кольца. Неизбежная модели корабля в бутылке свисала на проводе с потолка, она беспрерывно поворачивалась туда-сюда, так что горлышко в точности указывало стороны света.
Посреди всего этого сидел Капитан, глядел вокруг и мечтал, и прошлое с каждым днем становилось все ярче, а настоящее тускнело в сумерках сознания.
Сюда и пришли за ним однажды, в феврале.
Муниципалитет решил навести порядок в районе порта, и сарай его мешал. Все утро мимо ездили автоцистерны, поливая набережную водой. Следом явилась армия людей с метлами — они вымели из сточных канав грязь, пыль, апельсиновые корки, рыбьи головы. Разваливающиеся, вымазанные нефтью баржи, отслужившие свое краны, уродливые, наспех сколоченные заборы были обречены. Повсюду красят, скребут, наводят глянец, морят газом крыс, отстреливают бродячих кошек. Капитана неминуемо должны были обнаружить. И столь же неминуемо — решить его судьбу.
Едва ступили на порог, он сразу понял, зачем они пришли. Впереди — приземистый бодрый толстяк с острым взглядом «отца города». «В парадных случаях, — подумал Капитан, — такой стягивает покрывала с уродливых статуй, перерезает ленточки, закладывает краеугольный камень, сажает дерево и с лопатой в руках важно застывает перед фотографом».
С ним — женщина, та самая, кого Капитан в мыслях всегда называл «веселой вдовой». Она давно следила за ним, пронизывала взглядом, и в глазах — жажда одарить кого-нибудь милосердием. Ястребом, изголодавшимся по чувствительности, высматривала она, где бы сотворить доброе дело. Это она следила, как он ковыляет взад-вперед по берегу. Это она однажды застала его врасплох, и пришлось делать вид, будто он сует что-то в мусорный ящик, а не вытаскивает. Он уже давно перестал стыдиться того, что роется на помойках, но если за тобой шпионят — это совсем другое дело. Когда тебя жалеют — хуже некуда. Он не мог убежать, скрыться с ее глаз и потому прикинулся, будто не видит ее — ковылял себе по-прежнему, притворяясь, будто жалость никак его не трогает, а самого аж тошнило при одной мысли о том, как сухие губы женщины смакуют радость сострадания.
Однажды он прикрикнул на нее: «Убирайся! Оставь меня в покое!» Он не решался при ней обшаривать просмоленные ящики в поисках драгоценных табачных крошек. А женщина то появлялась, то исчезала, как альбатрос, и он не мог разобрать, что таится в стеклянных бусинах ее глаз — доброта или злоба.
Третий, как и положено, — представитель закона в великолепном обличье молодого, румяного, немного робеющего полицейского в каске и чистеньком синем мундире. Такой от волнения еще и в штаны напрудит.
«Ах ты, дьявол тебе в душу!» — подумал Капитан и потрясающе метко угодил плевком прямо в щель между досками.
— Ничего, дамочка, прилив смоет, — сказал он женщине.
И растянулся на самодельном ложе.
— Ну, чего вам? Арестовать меня пришли?
Он поглядел в упор на полицейского, и тот густо покраснел.
— Хотим дать вам новый приют.
Мед и деготь, доброта и алчность, христианская любовь и — да, точно, привкус злобы. Ведь это женщина сказала.
— Капитан!.. Все зовут вас Капитаном, потому и я вас так называю. Это, вероятно, прозвище?
— Черта с два! — ответил он толстяку. — Капитан Стоун, командир почтового фрегата ее величества, Ближний и Дальний Восток, каботажная торговля в Тихом, все по высшему классу — вот я кто!
Толстяк прокашлялся:
— Значит, капитан Стоун… Для вашего же блага гражданский суд, действуя на основании закона, постановил переселить вас в дом для престарелых. Надеюсь, вы проявите благоразумие и подчинитесь этому решению.
— Ну и нечего болтать зря, — сказал Капитан.
Он сел и начал шнуровать башмаки. Женщина не сводила глаз с полупустой бутылки на столе. Рядом, в другую бутылку, всю залитую воском, точно рождественский пирог глазурью, была воткнута свеча.
— Налить стаканчик? — предложил он женщине. — Надо бы прикончить бутылку, тогда и будет у меня двухсвечовое освещение.
Он рванул шнурок так, что тот лопнул. Потом обернулся к полицейскому, вытащил из кармана деньги:
— Послушай, я не бродяга какой-нибудь!
Полицейский явно смутился.
— У меня под началом были парни постарше тебя. Бывало, подвахтенный тащит чай с ромом, будит меня: «Капитан, капитан! Вас зовут на мостик, сэр!» В шторм никто, кроме меня, с кораблем не мог справиться. Только ветер переменится, и все уже блюют со страху, тьфу, пропасть!
Толстяк вынул длинный лист бумаги. Обвел глазами сарай, чуть задержался взглядом на китайских танцовщицах.
— Понятно, Капитан, но это строение — собственность муниципалитета. Говоря юридическим языком, вас отсюда выселяют.
— Выселяют? Вон как? — Капитан ткнул пальцем в сторону полицейского и, передразнивая нарочито отчетливую речь толстяка, спросил: — А разве не он должен вручить мне эту бумагу? Хотя какая разница?!
Он встал, грохнув башмаками о деревянный пол, и доски отозвались почти так же, как некогда палуба корабля. Порой по ночам казалось — ветер кренит сарай, приносит с собой голоса дальних, ревущих штормами широт. Здесь воздух пропитан морской солью, а теперь…
Он принялся аккуратно укладывать свои пожитки во флотские парусиновые мешки. Покончив с этим, взглянул на женщину:
— Доброе дело, значит, задумали? А тут старый дурак со всякими причудами. Пустяк, конечно…
Он обвел их всех обвиняющим взором и продолжал:
— Да, пустяк… Только во время прилива, когда штормит, я знал, что море вот тут, у меня под ногами…
Его поселили в комнате под башней, и по воскресеньям прямо над головой гудели колокола. Минуты, часы, дни скатывались по зеленым лугам, будили эхо в скалах, а на старом доме шелестела мантия, сотканная из плюща и роз. Солнце дремало в зеленых закоулках, и под вязами и платанами отпечатывалась узорчатая тень листьев.
У ворот, живым воплощением одиночества, стоял эвкалипт — один-единственный в этом забытом богом месте.
Здешнее спокойствие раздирало душу Капитана острыми клыками нестерпимых мук.
По ураган воспоминаний не утихал. Былые дни по-прежнему жили в потаенных уголках памяти: бордели Неаполя, потасовки в Тилбери, бури и затишья, переливы волн и сверкающей зеркальной глади. Все помнил он и все ревниво скрывал от чужих, назойливых глаз — лишь по ночам и замыкаясь в молчании извлекал он прошлое и при лунном свете вновь перебирал на все лады. Не уйти было отсюда, из долины, но в грезах своих Капитан бороздил моря и океаны.
По ночам на своем одиноком ложе он всякий раз ждал, когда же под ним опять закачается палуба. Тело его обретало невесомость, воспаряло, неслось в бушующей тьме — живая частица бури. Сердце радостно колотилось, когда палубу кренило под ногами и волны с грохотом обрушивались на нос корабля; Капитан ворочался во сне, вскрикивал, звал своих — Верзилу Дэна, Черного Джека, Свистуна Сэма или Недоумка Тэйлора, — и в ответ ему одно за другим ухмылялись из-за пелены брызг их давно неживые, худые лица.
Заморские имена дрожали на его просоленных губах, шелестели в мозгу, подступали и вновь откатывались, будто океанский прибой, будто крупная зыбь на морских путях к Востоку — к Джакарте и Сингапуру, к Рангуну и Мадрасу, к Бомбею, на юго-запад от Адена — в Момбасу и Занзибар, в Дурбан и Кейптаун. А дальше, к западу и на север — в Монтевидео, Рио, на Ямайку, в Гавану, Корпус Крнсти, Новый Орлеан, на Багамы, в Нью-Йорк. И дальше, дальше… Заморские имена чередой проходили в его спящем, но беспокойном мозгу. Что ни ночь, оживают бури, и вот во взмокшее от пота лицо летит соленая морская пена, ветер ревет в ушах. И даже во сне упрямый разум, неистовый дьявол, лупит, барабанит по натянутым, изболевшимся нервам; страх захлестнул спящего, и бешено мчащийся, вспененный синий вал смыл его с палубы.
Впивая всем существом смерть, он канул на дно бурлящего океана, среди взбаламученного песка… и всплыл только наутро, когда лучи солнца упали на постель и воскресили его — и вновь перед ним постылый день, и вновь он пытается заглянуть в смутные глубины тускнеющего сознания. Все его мысли сходились на одной — бежать…
— Почему вы хотите уехать? — директор уставился на него из-за непроницаемых очков.
«Глаза как у рыбы, — подумал Капитан, — только не такие добрые».
— Я теперь пенсию получаю,— сказал он. — И сестра письмо прислала. Хочет, чтоб я к ней перебрался. Вдвоем, говорит, получше будет.
— Скажите, мистер Стоун, а где живет ваша сестра?
Безжалостный голос застал его врасплох.
— Не «мистер», а «Капитан», — поправил он. — Где живет? Ясное дело, у моря!
— У моря?
— Ну да.
— Вы соскучились по морю, Капитан?
Неужели он готов уступить?
— А мне все равно.
Правильно ли ответил?
— В карте записано, что у вас нет родственников Капитан.
— Знаете, как бывает. Не хотел я ее в это дело впутывать, да кто-то все равно сболтнул, что я здесь.
— Что ж, Капитан, попросите ее приехать, побеседовать с нами, — сказал директор. — Несомненно, мы, как-нибудь все уладим.
Капитан пошаркал ногами.
— Беседовать с вами, а?
— Да. Было бы желательно.
Они посмотрели друг на друга. Капитан хмурился, директор выжидал, прятал глаза за толстыми стеклами очков. Капитан порывисто наклонился:
— Послушайте, разойдемся по-хорошему. К примеру, нет у меня сестры — вам-то что? На набережную не вернусь, даю слово! Сниму себе комнатку где-нибудь в городе и не в свои дела соваться не стану. Сроду не совался. Тихонький буду, чтоб мне провалиться…
— Весьма сожалею, — сказал директор.
— Ни черта ты не сожалеешь! — Капитан вскочил. — Если б вправду сожалел, так не цеплялся бы. Я вам тут не ко двору, меня все ненавидят. Брось, наперед знаю, что скажешь, да только я правду говорю. Начну им рассказывать, в каких краях побывал, а они либо завидуют, либо говорят — брехня! От меня тут одно беспокойство, и сам я как рыба без воды. Все только обрадуются, если я уйду. У тебя ж у самого вроде корабля — надо, чтоб команда была довольна!
— Вас определили к нам по решению суда, Капитан. Притом врач говорит, что здоровье у вас не из лучших…
— Бюрократы! — рассвирепел Капитан. — Всю жизнь с вашим братом воевал и сейчас не сдамся. Чтоб вам сдохнуть!
— Капитан, на рождество мы каждый год устраиваем экскурсию на побережье, — успел директор сказать ему вдогонку.
Капитан хлопнул дверью и, вспомнив белый халат и глаза, увеличенные толстыми стеклами, смачно сплюнул:
— На побережье, чер-р-рт! «А ну, девочки, подберем подол! Ах-ах, осторожней, не замочите свои розовые штанишки!»
И затопал по коридору.
Летними ночами, когда на окрестных холмах горели костры, Капитану снились огни его прошлого. Порой так явственно высвечивалось оно, что Капитан кричал во сне, и соседи по комнате подскакивали на жестких постелях и в дрожащем отблеске костров недоуменно смотрели, как он мечется, заново переживая былое…
— Ух ты!
Вдали, по правому борту, вдруг вырвалось с оглушительным ревом огромное пламя и рассыпалось над морем.
Извержение Стромболи!
Пламя все выше, выше; необъятный фейерверк взмывает, чадя, под самые облака. Пламя — непостижимо как — висит между небом и землей; и вот последний, могучий порыв ветра гасит его — и опять мерцают вдали огоньки деревушки, все та же тусклая горсточка в бархате ночи…
В Неаполе какой-то субъект придержал Верзилу Дэна за локоть:
— Девочка хочешь, синьор? Очень красивый, очень молодой, чистый?
И оскалил великолепные зубы в застывшей, выжидательной улыбке.
— Смотри не заведи куда-нибудь, где к вину всякую дрянь подмешивают, не то башку к чертям проломлю! Парнишке это дело впервой, понял? И чтоб не подцепил он ничего такого! — сказал Верзила Дэн.
— Ну, валяй, парень! — сказал он еще. — Пора уж тебе.
— Что ты, Дэн? А, Дэн?
— Давай, смелей! Пора, не маленький!
Шли вверх, по узкой, темной, ступенчатой улочке, куда-то высоко над городом. Откуда ни возьмись, орава мальчишек, кривляются, клянчат подачку — не протолкнешься. Провожатый злобно замахнулся на какого-то мальчонку, тот вывернулся из-под руки, пронзительно верещит:
— Дяденьки! Дяденьки! Я вас отведу где получше! И подешевле! И девки чистые! Дяденьки!..
Капитан проснулся — перед ним все еще стояло заострившееся лицо мальчонки, черные глаза его запали, во взгляде мольба, руки, тощие, как палочки, торчат из рукавов куцей куртки. Еще не выветрился затхлый запах — смесь пота и табачного дыма. Еще слышался шорох нижних юбок, грешный, постыдный, — так явственно слышался, будто все это было вчера.
— Ну и трещали они, прямо сороки, — сказал он. — А визжали — как чайки; и любил же я их, всех до единой!
Стыд подступил к горлу, как тошнота при морской болезни, и кружили в голове слова — обломки кораблекрушения.
— Ох уж этот мир, — вздохнул Капитан, окончательно очнувшись от сна, — весь мир — у меня в голове!
Еще не раз взлетал он и проваливался вместе с кроватью, и снова его швыряло в пучину и возносило на гребень волны, и ветер бил в лицо, а проснувшись, он обводил очумелым взглядом комнату — найти бы хоть какой островок, где покой обрести…
— Почему вы убежали? — спросили его.
— Я не убегал, — сказал он. — Это что, допрос?
— Мы стараемся вам помочь, — сказал директор, — Вы не в тюрьме, Капитан!
— Так чего ж меня вернули!
Все уставились на него, и он силился принять вызов, дерзко встретить их взгляды. Искал слова — молодые, хлесткие, сильные, чтобы эти люди дрогнули, подчинились ему. Но на ум шли другие слова, слабые, жалостные, взывающие о милости, плаксивые.
— Чего ж вернули-то? — повторил он.
— Значит, вы все-таки убежали? Почему?
— Не убегал я, — выговорил Капитан.
Он попытался было выпрямиться, но не хватило сил: больно ныла спина.
— Я хотел спрятать имущество, — сказал он.
— То, что у вас в мешке?
— Да.
— А почему, Капитан?
— У меня воруют.
— Кто ворует?
— Джейкобс, и еще соседи по комнате.
— А, вы про эту историю с японским веером? Но мистер Джейкобс говорит, вы сами подарили ему веер. И что мистеру Сомнеру слоника из бивня сами подарили.
— Брехня! — сказал Капитан.
Обернулся к помощнику директора в надежде на сочувствие, но куда там!
— Капитан, мистер Джейкобс прежде служил в банке, — сказал помощник. — Он человек честный, все его уважают. Что ж, по-вашему, он — вор?
— Ваш Джейкобс — старый осел. И давно выжил из ума! — заявил Капитан, распрямил спину довольный — вот и прорвались нужные слова.
— Выжил из ума? — повторил директор. — Вы в самом деле считаете, что Джейкобс такой уж дряхлый и выжил из ума?
И Капитан разом сник, довольства как не бывало. В комнате стало вдруг нестерпимо жарко, душно. Он отвел взгляд от этих людей, посмотрел в окно: за листвой платанов заходило солнце.
Настало рождество, но к морю, как обещал директор, не поехали. Вместо этого стариков пригласили осмотреть рыбозавод.
— Кому нужна эта икра? — говорил Капитан он и в автобусе, на лоснящемся, удобном, пахнущем кожей сиденье, с достоинством прямил спину. — Рыбья икра точь-в-точь лягушачья — что ж, прикажете угощаться и делать вид, будто подали настоящую, черную?
— Там вовсе не обязательно икра, — отвечал сосед. — Мальки форели, они, знаете, того… Я был там с дочкой. Там такие садки, и в них — прорва форелей!
— А, как сардинки? — сказал Капитан. — Это, конечно, другое дело!
Оба сидели, точно древние истуканы, глядели, как деревья и кусты пробегают в раме закупоренных окон, за дымчатым стеклом, и не долетал до них запах свежей травы с покатых, огороженных лугов. Не проникал сюда и прохладный западный ветерок — в серебристых, теплых автобусах-коконах уносились они все дальше, мимо сараев и силосных башен, мимо зарослей боярышника и тополей, мимо рек и плотин, вперед и вперед, сквозь этот мир, ставший ровным и гладким под шуршащими шинами.
— Приятный пейзаж, — заметил сосед.
Рассекая островки тени, они мчались по шоссе, обсаженному тополями.
Капитан не отводил глаз от унылой зелени за окном. Эх, увидать бы голубые ели Норфолка, бубиэллу на скалах Сиднея, вереницу пальм, точно зонты осеняющих белые рифы, и финиковые пальмы на берегах Нила…
— Да, — отозвался он, — одно слово: родина.
И улыбнулся, но во рту ощутил легкую горечь…
— Мы же ехали к морю, — сказал он человеку в зеленой фуражке. — Я предпочел бы съездить к морю.
— А мы до него самую малость не доехали, — ответил сопровождавший их санитар. — До берега отсюда километров десять, не больше.
— Вот как! — удивился Капитан. — Всего десять!
— Точно, дружище! Разве ты не чуешь запах моря?
— Меня столько раз дурачили. Говорили, мне это мерещится. Но верно, чую! Да, это ветер с моря!
Санитар рассмеялся…
Когда стемнело, он знал, его уже наверняка ищут. Ну, суматоха! Он ухмыльнулся. В объятиях ночи он в безопасности. Вспомнились непроглядные ночи Аравии.
И снова он шел, снова плыл по дорогам памяти, нигде не задерживался подолгу, не возвращался вспять, плыл все дальше, дальше, пока не ощутил, что голова вот-вот лопнет, как перезрелая слива, и целый мир, заключенный в ней, — моря и реки, горы и озера, дороги, рельсы, туннели и мосты, дома, проселки — все это выплеснется наземь, к его распухшим ногам. Он снова жил высокой-мечтой, снова бродил и плавал по свету. Вновь сражался с теми, кого одолел в прошлом, и презрительно глядел сверху вниз на поверженных, силы возвращались к нему, и тело его вновь стало молодо. Да, этой ночью он вернулся наконец к берегам своей памяти, и опять молод, и жизнь кипит в нем, он готов родиться заново, он очистился, и скверна изгнана из его тела. И вечная мудрость открылась ему.
Он мог бы им все рассказать, подарить им весь свет, этим смертникам, воплощениям отчаянья, этим жалким существам, бледным, чуждым солнца и ветра, жиреющим, ко всему слепым и глухим, — людишкам, которые, кажется, затем и родились, чтобы весь век ждать смерти. Суетились по пустякам и ждали неведомо чего, как обезьяны в клетках, — ни о чем не заботились, знай почесывали зад.
Сколько они потеряли! Он бы порассказал им, дохнул в их бледные, одинаковые лица соленым ветром дальних стран, пускай бы они отшатнулись и слиняли бы их застывшие, сытые улыбки. Дурачье! Дурачье! Дурачье! Он сомкнул губы, затаил дыхание и ничего не рассказал им, запрятал свой прекрасный мир в карман и лишь по ночам украдкой любовался им. При лунном свете крохотная Вселенная выскальзывала у него из кармана. Он поворачивал ее и так и эдак, глядел, как мир этот трепещет у него на ладони, и улыбался спокойно, умудренно. А сейчас он громко рассмеялся во тьме и похлопал себя по карману.
— На мне мир держится! — крикнул он черным силуэтам деревьев.
Утром он снова был стар и слаб и оттого почти не заметил, как лес остался позади и перед ним возник город. Восходящее солнце осветило первый ряд домов. И вот под ногами асфальт, Капитан медленно бредет по нему, а над головой скрещиваются провода, поблескивая в свете утра. Он идет мимо телеграфных столбов — они гудят, будто это проносятся вести из дальних стран; что за тайны гудят в проводах? От ровных зеленых лужаек пахнет свежей травой, сладким ароматом цветов, смешанным с запахами росы и пыли.
В конце улицы стоял трамвай. Опять послышался слабым гул, как от телеграфных проводов, и Капитан тяжело забрался в вагон.
Кондуктор улыбнулся ему, щелкнул замком билетной сумки.
— Далеко едем?
— Я хочу к морю, — сказал Капитан.
— Купаться еще рановато, папаша, — усмехнулся кондуктор.
— Я не купаться, — сказал Капитан. — Просто хочу к морю.
Темная форменная одежда смутно пугала, его.
Они испытующе смотрели друг на друга. Взгляд кондуктора сделался жестче — может, он что-то заподозрил? Ну, ясно, вот еще один, кому ничего не понять… и Капитан протянул пригоршню монет.
— Сколько с меня?
— Размахнулся, папаша! Ты ж не всю колымагу покупаешь.
Кондуктор опять щелкнул замком, закрывая сумку, вернул Капитану сдачу. Протянул руку, дернул звонок.
— Я скажу, где вылезать.
И пошел, покачиваясь на ходу, к передней площадке. Голос его доносился оттуда сквозь стук колес и треск искр.
Капитан уселся на желтое сиденье, вагон мотало, гремели по рельсам колеса. Из дверей домов, точно заводные куклы, выходили люди. И оставались позади, исчезали с глаз долой. На большом перекрестке кондуктор сказал — пора сходить. Капитан оглядел пустынную улицу. Называется «Улица Альбатросов».
Трамвай, покачнувшись, двинулся прочь, но кондуктор еще успел высунуться из дверей, сказал:
— Море в том конце, папаша. Да ноги не промочи.
Капитан зашагал по длинной сизой дороге.
Повеяло соленым дыханием моря. «Ну, еще немного, — сказал он своим усталым ногам. — Только одолеем тот холм».
Дома остались позади, перед ним выросли дюны. Птицы взмывали ввысь, кружились в безумном небе, казалось, манят белые пальцы…
И вот он на гребне дюны, и оно открылось — море!
Солнце отражается в волнах, катится к нему по мокрому песку, ближе, ближе, прямо к ногам Капитана. Он шагнул навстречу, в самое солнце…
— Солнце! — громко сказал он. — Сердцу холодно, согрей.
Над головой пронзительно кричали птицы.
Море дышало, море вздымалось, падало к его ногам, а когда оно отступало, вода, журча, нашептывала ракушкам о былом, о несчетных минувших днях. Наконец-то он снова пускается в плаванье! Он ликовал, всей грудью вдыхал вольный воздух и ждал мига, который возвысит его до бессмертия. Он и море, равно совершенные, блистательные,— он столь же недоступен боли, невесом, и пусть его снова швыряют бури, пусть ласкает влюбленный ветер, пусть увлекает за собой, волею луны, прилив и мчит к солнцу, и он вплывет в самое солнце легким, неслышным золотым лучом.
Его подбрасывало на волнах, вертело, кренило, пока мир вокруг не замер навеки, и Капитан застыл между пучиной и небосводом. Неотторжимо…
— Какой-то обломок, с корабля, наверно, — сказала девочка и отбежала. На берегу простерлось нечто распухшее, полузасыпанное песком. Волна лениво лизнула худую бледную руку.
— Ой, — тихо сказала девочка.
Слабый ветерок тронул ветви прибрежных деревьев, что-то шепнул ей…
— Ой, что ж это…
Она с плачем бросилась бежать по зыбкому белому песку. Прочь от плеска, от моря — назад, в город.
Перевод В.Болотникова
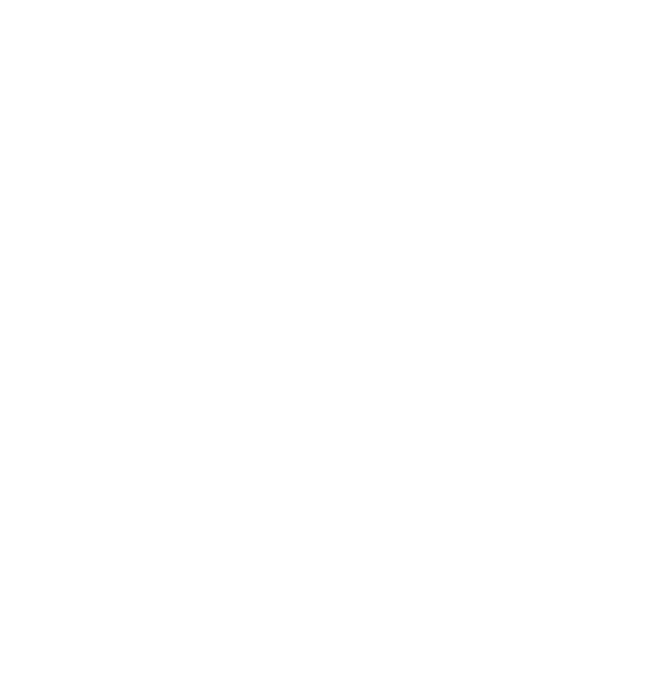
Хэл ПОРТЕР
Гарольд Эдвард «Хэл» Портер (1911-1984) — австралийский писатель, драматург, поэт и автор коротких рассказов. Портер родился в Альберт-Парке, штат Виктория, вырос в Бэрнсдейле, работал журналистом, учителем и библиотекарем. Первые рассказы были опубликованы в 1942 году, а к 1960-м Портер писал полный рабочий день.
Некоторые известные произведения:
Гарольд Эдвард «Хэл» Портер (1911-1984) — австралийский писатель, драматург, поэт и автор коротких рассказов. Портер родился в Альберт-Парке, штат Виктория, вырос в Бэрнсдейле, работал журналистом, учителем и библиотекарем. Первые рассказы были опубликованы в 1942 году, а к 1960-м Портер писал полный рабочий день.
Некоторые известные произведения:
- исторический роман «Наклоненный крест» (1961);
- научно-популярное произведение «Актеры» (1968);
- сборник рассказов «Мистер Баттерфри и другие истории Новой Японии» (1970);
- сборники стихов: «Шестиугольник» (1956), «Вороны Элайджи» (1968) и «На австралийском кладбище» (1974);
- пьесы «Эдем Хаус» и «Тода-Сан» («Профессор»).
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Мой дед по отцовской линии был англичанином, военным и длинноносым. Он дважды был женат и имел семеро сыновей и четыре дочери. Мой дед по материнской линии был швейцарцем, длинноносым, возделывал землю, имел одну жену, но шестеро сыновей и шестеро дочерей. Поэтому в детстве я был хорошо обеспечен не только родными дядями и тетками, но и дядями-мужьями и тетками-женами. И так как все эти пары были чрезвычайно плодовиты, то мои детские годы были переполнены длинноносыми двоюродными братьями и сестрами всех возрастов, от хвастунишек подростков и болтливых молодых женщин до гуттаперчевых младенцев в чепчиках набекрень, как у разгневанной королевы Виктории. Сейчас мне кажется, что мои деды ввезли в Австралию не только плодовитость и длинные носы, но главным образом шум. А шум в этом случае мог возрастать, прикрывая оживление, граничащее со взрывом чувств, с бешенством, — пропади оно все пропадом! — с лихорадочно пылким обсуждением вопросов первостепенной неважности. Все мои родственники, от самого никчемного дядюшки до самой светской-тетки, от теток, выстаивающих очереди за бесплатным хлебом, до богатейших дядюшек, — все были подвержены стойкой беззаботности. Моя мать, провинциалка до мозга костей, была тем не менее легкомысленна, как дельфин, и жила, как ветряная мельница, вертевшаяся под попеременными порывами грызни и восторганий.
В этом бурном родственном водовороте я, мальчишка, был инородным телом. От каких-то предков я унаследовал менее кипучую кровь. Моя приверженность к благопристойным манерам была столь же сильна, как их привычка все делать урывками, кое-как, разговаривать во весь голос, играть в азартные игры и жить по-цыгански. Это полнейшее отсутствие сдержанности вынуждало меня держаться в стороне и скорее наблюдать, чем участвовать в их жизни. Но, как ни странно, espirit de corps был во мне чрезвычайно силен. Однако я не был ни высокомерным, ни чопорным. Как у всех деревенских сорванцов, ворующих фрукты в чужих садах, колени у меня всегда были покрыты царапинами, похожими на японские иероглифы, а голые пятки так задубели, что я, наверно, мог бы ходить по горячим углям. Я плавал, как лягушка, ругался, как ковбой, и курил, как солдат. Однако эти мои способности и напускная жестокость были строга ограничены. Я не выходил за пределы. Другие члены семьи позволяли себе все, что угодно. Я, например, никогда не убивал змей так, как это делали дядюшка Фостер и мои двоюродные братья: они щелкали змеей, как хлыстом. Я обходился палкой. И кроме того, что я не стеснялся прибегать к предосторожностям в этом роде и часто удирал от шумной оживленности наших родичей, я еще и нарушал нелепые традиции. У всех моих двоюродных и троюродных братьев были собаки, обычно своенравные фокстерьеры или шустрые дворняжки. У меня была кошка. Я предпочитал ее сравнительную молчаливость и надменную независимость показному раболепию и шумной, неврастенической требовательности собак.
Надо ли добавить, что я носил очки и любил употреблять многосложные слова?
Клановый кодекс я нарушал не только своими поступками — я бунтовал против него невидимо, в душе. По крайней мере меня за это не бранили. Как все подростки, я верил, что змея с перебитым хребтом не может издохнуть до захода солнца, что если собака лизнет бородавку, то сейчас же вскочат еще несколько, а если поранить кожу между большим и указательным пальцами, то сразу же сомкнутся челюсти — и человек навсегда останется немым. Вместе со всей мальчишеской оравой я истово верил в привидения, в конец света и в Джека-прыгунчика. Потом все это как-то прошло. Будучи сторонником логики, я верил в Деда Мороза дольше, чем положено или допустимо для моих мальчишеских лет. Я не верил в бога, который, несмотря на все мои молитвы, надул меня — я так и не получил набора «Юный техник». К ужасу окружающих, я пронзительно выкрикнул богохульные слова в небеса. Для верующих я стал тем деревом, близ которого опасно стоять, когда сверкает молния.
Еще более странными и постыдными, чем богохульство, были эксцентричные мои поступки. Я так упивался причудами и вульгарностью родственников, что изменил обычной своей молчаливости и с ликованием заявил во всеуслышание о том, к чему мои родственники относились как к родимому пятну, которое лучше не выставлять напоказ. Сыновьям прачки, презрительным, с трауром под ногтями, я выболтал, что дочки швейцарского дядюшки, в порядке их рождения, были названы Роза Бона, Аделина, Селина, Марта, Мета и Ида. Я объяснил, что все эти имена, кроме того, что они кончаются на «а», еще и каждый раз становятся на одну букву короче. Мои братцы после безуспешных попыток заставить меня замолчать или отвлечься от этой темы мрачно глядели на меня, задрав носы, но я трещал без умолку, пространно сетуя на то, что нам не родили еще двух тетушек — последней тетке, сказочному существу по имени А, тете А, я бы радовался больше, чем своему любимому плум-пудингу из саго. Но вся наша семейка — я даже чертыхался, думая о ней, — вместо этих так занятно укорачивавшихся имен называла тетушек Бон, Адди, Лина, Мар, Мин-Мин и Долл. Меня, привыкшего к порядку во всем, это раздражало, как некий непорядок, точно так же, как страдало мое чувство собственности, когда мою мать называли не тетя Ида, а тетушка Долли. И, несмотря на многословные протесты тети Роры Боны и тети Аделины, я демонстративно не называл родственников уменьшительными именами. Я упорно не называл «дядя Уит», «дядя Гэт» и «дядя Тини» своих дядюшек по отцовской линии, которых в честь огнестрельного оружия окрестили Уитвортом, Гэтлингом и Мартини-Генри. Остальных сыновей моего военного деда звали Ланкастер, Энфилд, Снайдер и Маузер.
И хотя у меня было свое отношение к этим абсурдным именам, мои темпераментные родичи оказывали на меня магнетическое действие. Даже дикобразу его сородичи кажутся пушистыми и мягкими. Но я превзошел его — мои дикобразы-родственники представлялись мне атласными и нежными, как пуховка для пудры.
Все мои дядюшки и тетушки имели по крайней мере одно безудержное пристрастие, и даже сейчас, много лет спустя, в мои ностальгические зрелые годы я вспоминаю эти пристрастия с восхищением. Но — увы! — теперь я знаю, что под маской жизнерадостности и легкомыслия крылись всякие человеческие пороки: коварство, глупость, лживость, транжирство, самые разнообразные страдания и даже настоящие трагедии. И все же в те времена я буквально разевал рот, слушая или подслушивая их рассказы об их ярких и увлекательных деяниях. Эти легенды, которые они столь живописно рассказывали о себе и о других, так их возвеличивали, что они, герои и амазонки, маячили и мчались по краю моего умственного горизонта, отбрасывая тени длиною в милю, словно в лучах прожектора. Когда вся эта знать представала передо Мной во плоти, я готов был разинуть рот — в ту пору я еще не привык к разочарованиям. Действительность не расходилась с воображением. Но в семье я держался, как Три Мудрые обезьяны: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».
Нафабренные усы дяди Мартини-Генри, и его тросточка, и цепочка для часов с акульим зубом вместо брелока меня впечатляли не меньше, чем легенды о его приключениях в девственных лесах, или выложенные плюшем ларцы для трубок дяди Уитворта, или сад тети Розы Боны, полный таких крупных и пышных цветов, что их хотелось съесть. Меня пленяли их дома, где пахло свежесваренным клубничным вареньем, или политурой для мебели, или нарезанными лимонами, или одеколоном, или сбежавшим молоком, кошками и сигарами. Очевидно, где-то в мозгу или в подсознании сохраняются какие-то подробности прошлого, и я до сих пор помню запах турецких сигарет, которые курил дядя Маузер, и глицеринового мыла тетушки Селины, помню, в каком порядке были расставлены банки с чаем и давно уж перебитые вазочки с позолоченными ручками; я и сейчас чувствую под пальцами выпуклый греческий узор по краям десертных тарелочек тети Аделины и слышу, как певица Мельба завывает: «Дом, мой милый дом» — в похожей на шоколадного цвета вьюнок трубе граммофона тети Меты.
Я пользовался каждым случаем, чтобы наполнить копилку впечатлений. Я подбирал замечательные фразы, небрежно брошенные среди крошек от пирога, над блюдцами с чаем, я хранил лучезарные улыбки, перехваченные на лету во время пикников, — словом, я обламывал и похищал целыми охапками ветви в полном цвету из сада, где лето казалось нескончаемым и прекрасным. И каким же немилосердно долгим кажется теперь этот мертвый сезон.
Как все дети разветвленного, но обладающего стадным чувством семейного клана, мои двоюродные и родные братья и сестры, и я в том числе, проводили школьные каникулы где угодно, только не в наших шумных гнездах. Нами обменивались, как родственными приветами. Тех из нас, кто жил в пригородах, отгружали к тетям и дядям, живущим в деревне; деревенских же увальней переправляли гостить в город. Все дети — страшные барахольщики. Каждый возвращался домой с какими-нибудь предметами, почти ничего не стоившими, но драгоценными потому, что достались даром. Помню, мои сестры привозили домой пряжки от туфель, кучу мотков шелка для вышивания, костяные спицы, коротки от пудры, облезлых кукол и сломанные веера, все еще источающие запах давно вышедших из моды духов, название которых никто уже не помнил. Братья время от времени привозили заспиртованных в банках ящериц, пустые ящички из-под сигар, страусовое яйцо с резьбой, перочинные ножи с черепаховой ручкой и сломанными лезвиями, прямоугольную теннисную ракетку и, по какому-то торжественному случаю, старое банджо дяди Снайдера. Все это был хлам, но, словно туристские сувениры, он сохранял особое очарование, которого хватало, чтобы скрасить короткий промежуток между праздником и буднями.
Как единственный ребенок в этих шумливых перетасовках, который живо интересовался родней, я был прирожденным архивариусом и оказался белой вороной. Прошлое дяди Снайдера меня занимало куда больше, чем неиграющее банджо. Мне хотелось знать факты, даты, знать, как, где и почему, собрать как можно больше сведений о прошлом живых богов и богинь, которые вызывали у меня уважение.
Наверно, глаза у меня блестели не меньше, чем стекла очков, когда мне дарили карточки с меню званых обедов, масонских обедов и обедов у мэра или старые театральные программки, приглашения на выставки и свадьбы. Мир замедлял свое коловращение, узнав тот факт, что 24-го июня 1911 года тетя Аделина присутствовала на свадьбе. И то, что она до сих пор бывает на свадьбах, придавало моему воображению яркость и глубину. Открытки были особым зерном для моей неутомимой мельницы. Так как в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века, в эту эру посылки и коллекционирования открыток, мои тети и дяди были молоды, мне пришлось натыкаться на множество рифов. Вот, например, такая любопытная находка — 13-го февраля 1913 года дядя Гэтлин, живущий на улице Виктории в Северном Уильямстоуне, получил некое послание на открытке, изображавшей негритянку Топси — голова с множеством косичек, похожая на булаву, утыканную шипами, лицо наполовину скрыто огромным полумесяцем — ломтем дыни, а вверху надпись: «Ужас до чего хорошо». Внизу, под пальцами ее босых ног, растопыренными, как пальцы пианиста, надпись кончалась словами: «…в Сент-Килде». На обратной стороне было написано лиловыми чернилами:
«Дорогой Гэт!
Полюбуйся на эту черномазую на обратной стороне!!! Сообщаю тебе, что в будущую субботу к трем часам вся наша теплая компания собирается в „Белом олене“. Повеселимся так, что небу станет жарко!!! Котелок не надевай!!!
Гарри»
Я выпрашивал всякие открытки: Закат на Ниле, Мисс Вилли Берк, Мисс Зена Дэйр, открытки с наклеенными розами из бархата, открытки с кричаще яркими изображениями курортных пансионов или с остротами насчет тещи. Я ретиво охотился за любыми фотографиями — футболисты в полосатых красно-белых фуфайках, точь-в-точь столбики у парикмахерских; тетя Селина в шляпе из страусовых перьев величиной с тележное колесо, а на шее боа, как хомут; дядя Энфилд, который мне помнился как шар в отлично сшитом костюме, с моноклем в глазу; на карточке он щуплый, косоглазый подросток в бархатном костюмчике а-ля маленький лорд Фаунтлерой; тетя Мета — ненакрашенные губы, голые плечи, копна пышно взбитых волос и выпученные стеклянные глаза, как у восковых красавиц в шифоновых гнездышках за стеклами парикмахерских витрин.
Я с таким рвением и упорством продолжал свои домогательства, что моя родня перестала подтрунивать надо мной и даже поощряла мои старания. Меня уже считали чем-то вроде нотариуса. Тетушки после весенней уборки присылали мне целые пачки фотографий; дяди откладывали для меня неясные рыжие снимки («Я — в Леонгате, 1920») пли открытки, изображающие красноносых пьяниц, и раков, семафоривших клешнями из задних карманов их брюк. Все это они выудили из ящиков, где хранились сокровища прожитой жизни — портмоне, страховые полисы, галстучные булавки с опалами, первые любовные письма жен и разрозненные запонки. Меня прозвали профессором и с нежностью щипали меня за ягодицы. Благодаря мне археологические раскопки пикантного и хаотического прошлого стали привычным времяпрепровождением для моих дядей и теток.
Но увы!
На вершине моей крохотной славы, в невзрачном десятилетнем возрасте, я, пчеловод, ужаленный собственной пчелой, влюбился в фотокарточку. Я был глубоко, отчаянно и непоколебимо влюблен.
Эту фотографию я получил от тети Меты вместе с пачкой открыток. Не будь я один в доме, где никто не мог заглянуть через мое плечо, мне, наверное, не довелось бы испытать длительный экстаз, а потом — жестокое разочарование. Но я был один, когда явился почтальон; я в полном одиночестве вскрыл конверт с подарком и среди открыток, изображавших девиц из Варьете, среди любительских снимков — мои дядюшки в котелках, сидящие в повозках и двуколках, и тетки с муравьиными талиями на велосипедах или возле них — я, один в пустом доме, встретил свою судьбу. И то, что случилось в тот день, в ту минуту, уже нельзя было изменить.
Я увидел фотографию. Дверь в тот известный мне протухший мир бесшумно закрылась за моей спиной. Я очутился в преддверии рая. И золотой, сверкающий алмазами трон стал теперь моим. Я понял, что все мои тайные влюбленности были ненастоящими, были выдуманными, были ничем. И напрасно у меня замирала душа от теней — пусть даже одушевленных; от видений! — пусть даже самых радужных, от пустеньких существ, от обманчивой внешности, от облаков кисеи, платьев без женщин, мужских имен без мужчин. С любовью у меня было только шапочное знакомство.
На фотографии была девочка примерно моих лет.
Девочка была в платье с кринолином, и, поскольку она держала в руке пастушеский посох, украшенный большим бантом, я догадался, что она одета для костюмированного бала и изображает ту пастушку из детской песенки, что потеряла овечку. А может, она и есть та пастушка? Но по фотографии не угадаешь. Чуть сдвинутая набок овальная шляпа из лент и розовых бутонов, черные сетчатые митенки до локтя, крест-накрест зашнурованный корсаж — все вызывало во мне романтическое волнение. Но не это всколыхнуло мою душу, открыв в ней еще неведомые мне глубины и пространства, а свет ее глаз и улыбки. Мне даже в голову не пришло, что улыбка и взгляд адресованы стоявшему перед ней на треноге фотоаппарату, похожему на гармонику, который вместе с безымянным человеческим существом был скрыт под черной тряпкой. Нет! Эта слабая, обаятельная улыбка была предназначена — мне. Эти бездонные, но пронзительные темные глаза глядели прямо мне в душу. Шум голосов пронесся по лабиринтам моего сознания, вытеснив все прежние впечатления, наполнив их незнакомыми ароматами и восторженным криком: «Ты!»
— Ты!
Я подслушивал голоса вечности.
Вечность — жертва времени.
Едва наступила вечность, как я услышал голос матери у входной двери. Неторопливо, как матерый преступник, я спрятал фотографию во внутренний карман. Я помнил, что этот карман у меня слева и что божественное лицо нарочно повернуто внутрь. И ее глаза глядели прямо в мое сердце, которое представлялось мне красным, как червонный туз, округлым, как артишок, и сделанным из чего-то такого, что на ощупь было похоже на лепестки магнолии. Я согнал сияние со своего лица, жестом картежника собрал веером остальные фотографии, и, когда вошла мать, я воскликнул — о, прекрасно изображая невинное и простодушное дитя:
— Смотри, что мне прислала тетя Мета!
И ни слова о божестве, глядевшем в мое сердце, — ни одного слова. Я так ничего и не сказал матери. И фотографию, и свою любовь я скрывал семь лет. И — ни разу не выдал себя.
Но так как мои карманы и ящики стола подвергались материнскому осмотру, мне приходилось всегда быть начеку. Сейчас я даже не могу припомнить все тайники, куда я прятал свою любовь, если было невозможно носить ее при себе. Когда я вынужден был расставаться с ней и прятать под бумажную прокладку коробки из-под обуви, где держали шелковичных червей, в подпоротую обшивку гладильной доски или в тяжелую, как гробовая плита, Библию, которую никто не читал, мне казалось, что там ее нежная улыбка растаяла, а смелые глаза стали сонными.
То, что мое поклонение не проходило, а даже усиливалось, было (и осталось) удивительным, так как я с невероятной быстротой опережал ее годами. Во мне изменилось все, кроме моей восторженной влюбленности. А девочка не менялась, хотя ее прелесть приобрела другой смысл: ее глаза открывали мне новые истины, они мерцали, словно перламутровая пленка на черной нефти, и в то же время были неподвижны и таинственны, как бесконечность.
Я изменился. И все мои родственники тоже. С первого взгляда казалось, что их оживленность, бодрость, энергичная жестикуляция и жизнелюбие остались неизменными. Но если всмотреться, оказалось, что позолота изрядно стерлась или появились тонкие, как волосок, трещинки. Словно тарелки, которые передержали в горне для обжига, вид моих дядей и теток из тех, кто постарше, доказывал, что они слишком долго пробыли в горниле жизни. Чем больше набегало морщинок вокруг глаз, чем больше редели или покрывались сединой волосы, раздавались вширь или усыхали тела и клонились к земле — последнему своему пристанищу, — тем чаще я замечал, что они становятся все болтливее и шумнее. В их веселье появился оттенок вульгарной развязности, они беспрерывно хохотали, забывая, над чем и отчего; впрочем, это уже не имело значения. По-видимому, никто не решался спросить: «А почему, собственно, мы смеемся?» — и смех не умолкал. Все эти эпохальные светила, согревавшие мое раннее детство, приближались к закату по небу, багровевшему от сдержанного гнева.
Самой бойкой из этих угасающих светил была тетя Марта. Весь семейный клан давно уже прозвал ее Веселой Вдовой — довольно необычное прозвище среди множества супружеских пар. Мне то и дело доводилось подслушивать или выслушивать, что муж тети Марты был красив, обаятелен, богат, талантлив и так далее. Я пришел к выводу, что умершие непременно обладают всеми качествами, которых почти не бывает у живых, а если и бывает, то далеко не все. Можно подумать, что избыток хороших качеств является непременным условием для смерти. Это так трагично, повторяли все, что он умер через два месяца после свадьбы. Он и милая Марта, в один голос утверждали все, были отличной парой и безумно любили друг друга. Как я узнал, Марта сначала искала утешения в путешествиях, потом в путешествиях и портвейне, а в конце концов не столько в путешествиях, сколько в портвейне, и… тут голоса понижались, но я, напрягая слух, все-таки услышал… и в молодых людях.
Я видел ее не часто. Она всегда была вызывающе накрашена. Ее хриплые сарказмы были ужасны. От ее мехов, в которых поблескивали злые глаза лисьих морд, уткнувшихся носами в свои драгоценные туловища, пахло крепкими духами; под лайковыми перчатками выпирали кольца. Она курила нежно-голубые, желтые и сиреневые сигареты с золотым фильтром. Она стала позором семейного клана. Она была членом семьи, но к ней относились как к домашнему зверьку с какими-то странными пороками. Впрочем, добродетели так же неотвратимо старят и добродетельных: простодушие переходит в раздражительность, привычки — в наигранность, милые шалости — в назойливые чудачества.
Что до меня, то я был в той поре, когда в пушок на верхней губе втирают вазелин. Я стал пользоваться бриллиантином — для моих родителей это было равносильно курению опиума. Я страдал по кастовым знакам взрослых — по запонкам и наручным часам; в то короткое время я принадлежал к себялюбивой, жалеющей только себя, невыносимой породе людей, которая лелеет одиночество и скуку и в которой пробиваются мощные ростки всех главных пороков человечества. Я был юношей в угрюмом семнадцатилетнем возрасте.
Все мои пороки: заносчивость, неэстетичность, грязные мысли и абсолютная никчемность — находили прощение только у фотокарточки. Я невыносимо повзрослел, я впервые надел длинные брюки, и мать уже не обшаривала мои карманы с криком: «Долго ты будешь таскать этот мерзкий платок?»
Поэтому фотография могла спокойно лежать прямо у меня на сердце, в сафьяновом бумажнике, который подарил мне дядя Ланкастер. Глаза, в которые я семь лет так часто глядел, по-прежнему сияли лунным светом и по-прежнему сообщали мне пророческие истины; улыбающиеся губы, казалось, все еще шептали: «Ты!» — и сулили все подтверждения этому, весь покой, всю мудрость и всю любовь.
В то время, когда усы у меня еще не пробились, бриллиантин все еще был сущим проклятием для моей матери, на руке так и не было часов и каждый день сулил пытку скукой, — в то время в наш провинциальный городок приехала тетя Марта.
Однажды перед вечером, когда мы сидели за обедом, раздался телефонный звонок. Мать встала из-за стола и вышла к телефону. До нас донеслись ее восторженные восклицания. Она вернулась помолодевшая, с розовыми пятнами на щеках. «Расстроена», — определили мы по этим пятнам. Отца не было дома. Мать была в наших руках. Мы, все шестеро, с особым выражением уставились на нее. Мать мужественно выдержала наши взгляды.
— Тетя Марта приехала, — сказала наконец она довольно небрежным тоном, не садясь за стол. — И прекратите это. Немедленно. А то я скажу папе. Уберите это нахальное выражение с ваших нахальных физиономий.
— Мамочка, ты сядь, — заговорили мы. — Отдохни, мамочка. Соберись с мыслями. Не робей. Говори самое худшее, мамочка. А то мы скажем папе.
Мать не стала садиться.
— Прекратите, — сказала она. — Сию минуту. Или я закричу на весь дом, — Она как бы по рассеянности взглянула на часы. — Тетя Марта здесь проездом в Сидней. Ночевать будет в «Терминусе».
—А-га! — сказала моя двенадцатилетняя сестренка. — Она такая душенька, да? Она приехала навестить бедных родственничков?
— Нет, — отрезала мать. — Как ты смеешь, барышня? — И мать села, сложно ей больше ничего не оставалось делать. — Она говорит, что очень устала.
— Она такая до-обренькая…
— Прекрати! — крикнула мать. — Как ты смеешь Думать, что Марта… как вы смеете, мисс? У нее была такая трагическая жизнь… — Она попыталась было прослезиться, но вместо того удовлетворенно потрогала кончинами пальцев свои короткие, завитые сегодня волосы. И мысленно перебирала свой гардероб.
— Который час? Эти часы спешат, или отстают, или идут правильно? Мне придется ехать, надо же ее повидать.
«Мне очень хочется ехать, — перевели мы, — и я сгораю от любопытства».
Как старший сын и представитель главы семьи, я поехал с матерью.
Отель «Терминус» был замершим ульем. В гостиной, где несколько пальм создавали впечатление зачахшего зимнего сада, не было ни души, кроме тети Марты и какого-то молодого человека. Они сидели в глубоких плюшевых креслах, и, судя по их виду, сидели очень долго. Между ними стоял индийский медный столик с бутылкой и бокалами и пепельница с рекламой виски, полная окурков со следами губной помады и дымившаяся, как мусорная куча.
— Мои дорогие! — сипло воскликнула тетя Марта, тяжело вставая с кресла. И чуть тише, уголком рта, сказала: — Ты, дубина, встать надо, когда входит дама.
Из-под горизонтальной брови, одной над обоими глазами, молодой человек метнул на нее знакомый мне взгляд — такие же взгляды я метал на мать, когда она объявляла посторонним, что я пишу стихи или грызу ногти. Молодой человек со смазливым, но тусклым лицом неуклюже поднялся.
Все, что происходило потом, не представляет особого интереса.
Тетя Марта была изрядно пьяна. Несмотря на пятьдесят лет, фигура ее довольно хорошо сохранилась. Платье и туфли подобраны со вкусом, который стоит больших денег. Ее тускло-черные волосы были завиты барашком; краска и завивка, очевидно, тоже стоили немало денег.
Мы являли собою неслаженный квартет, но, чем бы ни был чреват этот вечер, тетя Марта и моя мать явно не думали об этом. Единственный тетин упрек молодому человеку быстро канул в молчание. Она представила его нам как Ивана такого-то, но сама с почти супружеской насмешливостью называла его «И-фаном». Казалось, ближе к ночи, неторопливо идя к постели, она могла бы остановиться и сказать: «О, господи! Мой И-фан! Чуть его не забыла!» — словно речь шла о зонтике. Должно быть, она забывала множество таких зонтиков.
Голоса сестер перекрывали друг друга, они болтали без умолку, и все о семье, о семье, о семье. Они хихикали, они даже взвизгивали. По диагонали сквозь их болтовню И-фан односложными словами знакомил меня с тяжелой атлетикой. Для меня это было китайской грамотой. Я сидел с каменным лицом. Он надвинул на глаза свою бровь, словно капюшон, и, скрывшись под ним, дул коньяк. Тетя Марта бокал за бокалом пила портвейн. Моя мать со словами: «Нет, нет, Марта! Больше ни капли, а то я на ногах не устою» — выпила вторую, третью, а затем четвертую рюмку коньяка. Мне было разрешено выпить два стаканчика имбирного пива.
Мое увлечение жизнью родственников с возрастом прошло, тетя Марта меня не только не интересовала, но даже вызывала скуку, стыд и отвращение. Передо мной был классический образец безнравственности. Что-то колыхалось в ее лице, похожем на обветшалую резину, оно гримасничало, подмигивало, от смеха собиралось в складки и все же было мертвым: Помада с извивающихся губ посередине стерлась, обнажив их лиловый цвет. Иногда в ее глазах вспыхивал темный пламень, но это была иллюзия — они у нее просто бегали. Они не решались остановиться под голубыми блестящими веками.
Все это мне смертельно надоело, и я попытался спугнуть мать, напомнив ей о себе и о позднем времени. Я вынул свой бумажник и развернул его жестом взрослого мужчины. Этот жест остановил мать на полуслове.
— Я хочу купить еще… — я не мог вспомнить ни одного названия спиртных напитков, — …еще бутылочку.
— Ах, какой проказник! — воскликнула тетя Марта. — Знаешь, Долл, он будет красавчиком, даже в очках. Милый мальчик, ты не должен тратить свое состояние на гадких богатых теток.
Она протянула руку, выхватила у меня бумажник и помахала им, держа за уголок большим и указательным пальцами. Это было не более чем старомодная игривость «под девочку», жеманство в стиле Лили Лэнгтри, но на меня оно подействовало, как землетрясение, я был просто уничтожен. Из бумажника на медный столик упала моя тайна, мое безмолвие, моя мечта и семилетнее обожание, фотография девочки с целомудренным взглядом и улыбкой — улыбкой моей первой любви.
Я был слишком потрясен, чтобы схватить ее, спрятать, спасти.
— А он — темная лошадка, Долл, — сказала тетя Марта, беря фотографию. — Казанова. Это его любовь! — Прищурясь, она разглядывала фотографию, держа ее на расстоянии вытянутой руки.
— Кто? Кто это? Кто? — Мать протянула руку.
Это была минута, когда впервые жизнь перестала казаться мне прекрасной.
Жизнь внезапно и свирепо оборачивает к нам свое лицо и широко распахивает глаза. И ничего нельзя в них прочесть, кроме уничтожения, и всеотрицания, и перспективы стать полным ничтожеством. Душевный покой — это ложь, такого не бывает. Боги повержены в прах. Украшенный драгоценными камнями трон из блаженных снов стал просто камнем на пустыре. Цветы, которые, казалось, усыпали твой путь, стали вовсе не цветами, а пожухлыми листьями, которые исступленно взлетали в пустоту, и кружились в пустоте, и, изнемогая, падали на землю. Так впервые осознаешь, что ты смертен и что единственное, чего никто у тебя не отнимет, — это смерть.
— Кто? — спросила тетя Марта, с мерзкой ухмылкой глядя на фотографию. — Гляди, Долл. Гляди на эту красивенькую хмурую чудачку.
— Где ты это взял? — спросила мать.
— Нашел. Я ее нашел, — сказал я голосом, охрипшим от ненависти и лжи. — Я нашел ее в ящике стола. Где раньше лежали старые фотографии. Сегодня днем.
— Помнишь, Долл? — спросила тетя Марта, допивая свое вино, — На вечере у Лолли Эдвардс? Черт возьми, я ни за что не стану кричать на всех углах, как давно это было. А ты была Золушкой. Помнишь, Долл? Покажи И-фану, какой я была душкой.
И пьяная женщина с помутневшими от алкоголя глазами растянула дряблые мускулы накрашенного рта и хрипло захохотала, и сердце мое разорвалось.
Перевод Н. Треневой
Мой дед по отцовской линии был англичанином, военным и длинноносым. Он дважды был женат и имел семеро сыновей и четыре дочери. Мой дед по материнской линии был швейцарцем, длинноносым, возделывал землю, имел одну жену, но шестеро сыновей и шестеро дочерей. Поэтому в детстве я был хорошо обеспечен не только родными дядями и тетками, но и дядями-мужьями и тетками-женами. И так как все эти пары были чрезвычайно плодовиты, то мои детские годы были переполнены длинноносыми двоюродными братьями и сестрами всех возрастов, от хвастунишек подростков и болтливых молодых женщин до гуттаперчевых младенцев в чепчиках набекрень, как у разгневанной королевы Виктории. Сейчас мне кажется, что мои деды ввезли в Австралию не только плодовитость и длинные носы, но главным образом шум. А шум в этом случае мог возрастать, прикрывая оживление, граничащее со взрывом чувств, с бешенством, — пропади оно все пропадом! — с лихорадочно пылким обсуждением вопросов первостепенной неважности. Все мои родственники, от самого никчемного дядюшки до самой светской-тетки, от теток, выстаивающих очереди за бесплатным хлебом, до богатейших дядюшек, — все были подвержены стойкой беззаботности. Моя мать, провинциалка до мозга костей, была тем не менее легкомысленна, как дельфин, и жила, как ветряная мельница, вертевшаяся под попеременными порывами грызни и восторганий.
В этом бурном родственном водовороте я, мальчишка, был инородным телом. От каких-то предков я унаследовал менее кипучую кровь. Моя приверженность к благопристойным манерам была столь же сильна, как их привычка все делать урывками, кое-как, разговаривать во весь голос, играть в азартные игры и жить по-цыгански. Это полнейшее отсутствие сдержанности вынуждало меня держаться в стороне и скорее наблюдать, чем участвовать в их жизни. Но, как ни странно, espirit de corps был во мне чрезвычайно силен. Однако я не был ни высокомерным, ни чопорным. Как у всех деревенских сорванцов, ворующих фрукты в чужих садах, колени у меня всегда были покрыты царапинами, похожими на японские иероглифы, а голые пятки так задубели, что я, наверно, мог бы ходить по горячим углям. Я плавал, как лягушка, ругался, как ковбой, и курил, как солдат. Однако эти мои способности и напускная жестокость были строга ограничены. Я не выходил за пределы. Другие члены семьи позволяли себе все, что угодно. Я, например, никогда не убивал змей так, как это делали дядюшка Фостер и мои двоюродные братья: они щелкали змеей, как хлыстом. Я обходился палкой. И кроме того, что я не стеснялся прибегать к предосторожностям в этом роде и часто удирал от шумной оживленности наших родичей, я еще и нарушал нелепые традиции. У всех моих двоюродных и троюродных братьев были собаки, обычно своенравные фокстерьеры или шустрые дворняжки. У меня была кошка. Я предпочитал ее сравнительную молчаливость и надменную независимость показному раболепию и шумной, неврастенической требовательности собак.
Надо ли добавить, что я носил очки и любил употреблять многосложные слова?
Клановый кодекс я нарушал не только своими поступками — я бунтовал против него невидимо, в душе. По крайней мере меня за это не бранили. Как все подростки, я верил, что змея с перебитым хребтом не может издохнуть до захода солнца, что если собака лизнет бородавку, то сейчас же вскочат еще несколько, а если поранить кожу между большим и указательным пальцами, то сразу же сомкнутся челюсти — и человек навсегда останется немым. Вместе со всей мальчишеской оравой я истово верил в привидения, в конец света и в Джека-прыгунчика. Потом все это как-то прошло. Будучи сторонником логики, я верил в Деда Мороза дольше, чем положено или допустимо для моих мальчишеских лет. Я не верил в бога, который, несмотря на все мои молитвы, надул меня — я так и не получил набора «Юный техник». К ужасу окружающих, я пронзительно выкрикнул богохульные слова в небеса. Для верующих я стал тем деревом, близ которого опасно стоять, когда сверкает молния.
Еще более странными и постыдными, чем богохульство, были эксцентричные мои поступки. Я так упивался причудами и вульгарностью родственников, что изменил обычной своей молчаливости и с ликованием заявил во всеуслышание о том, к чему мои родственники относились как к родимому пятну, которое лучше не выставлять напоказ. Сыновьям прачки, презрительным, с трауром под ногтями, я выболтал, что дочки швейцарского дядюшки, в порядке их рождения, были названы Роза Бона, Аделина, Селина, Марта, Мета и Ида. Я объяснил, что все эти имена, кроме того, что они кончаются на «а», еще и каждый раз становятся на одну букву короче. Мои братцы после безуспешных попыток заставить меня замолчать или отвлечься от этой темы мрачно глядели на меня, задрав носы, но я трещал без умолку, пространно сетуя на то, что нам не родили еще двух тетушек — последней тетке, сказочному существу по имени А, тете А, я бы радовался больше, чем своему любимому плум-пудингу из саго. Но вся наша семейка — я даже чертыхался, думая о ней, — вместо этих так занятно укорачивавшихся имен называла тетушек Бон, Адди, Лина, Мар, Мин-Мин и Долл. Меня, привыкшего к порядку во всем, это раздражало, как некий непорядок, точно так же, как страдало мое чувство собственности, когда мою мать называли не тетя Ида, а тетушка Долли. И, несмотря на многословные протесты тети Роры Боны и тети Аделины, я демонстративно не называл родственников уменьшительными именами. Я упорно не называл «дядя Уит», «дядя Гэт» и «дядя Тини» своих дядюшек по отцовской линии, которых в честь огнестрельного оружия окрестили Уитвортом, Гэтлингом и Мартини-Генри. Остальных сыновей моего военного деда звали Ланкастер, Энфилд, Снайдер и Маузер.
И хотя у меня было свое отношение к этим абсурдным именам, мои темпераментные родичи оказывали на меня магнетическое действие. Даже дикобразу его сородичи кажутся пушистыми и мягкими. Но я превзошел его — мои дикобразы-родственники представлялись мне атласными и нежными, как пуховка для пудры.
Все мои дядюшки и тетушки имели по крайней мере одно безудержное пристрастие, и даже сейчас, много лет спустя, в мои ностальгические зрелые годы я вспоминаю эти пристрастия с восхищением. Но — увы! — теперь я знаю, что под маской жизнерадостности и легкомыслия крылись всякие человеческие пороки: коварство, глупость, лживость, транжирство, самые разнообразные страдания и даже настоящие трагедии. И все же в те времена я буквально разевал рот, слушая или подслушивая их рассказы об их ярких и увлекательных деяниях. Эти легенды, которые они столь живописно рассказывали о себе и о других, так их возвеличивали, что они, герои и амазонки, маячили и мчались по краю моего умственного горизонта, отбрасывая тени длиною в милю, словно в лучах прожектора. Когда вся эта знать представала передо Мной во плоти, я готов был разинуть рот — в ту пору я еще не привык к разочарованиям. Действительность не расходилась с воображением. Но в семье я держался, как Три Мудрые обезьяны: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».
Нафабренные усы дяди Мартини-Генри, и его тросточка, и цепочка для часов с акульим зубом вместо брелока меня впечатляли не меньше, чем легенды о его приключениях в девственных лесах, или выложенные плюшем ларцы для трубок дяди Уитворта, или сад тети Розы Боны, полный таких крупных и пышных цветов, что их хотелось съесть. Меня пленяли их дома, где пахло свежесваренным клубничным вареньем, или политурой для мебели, или нарезанными лимонами, или одеколоном, или сбежавшим молоком, кошками и сигарами. Очевидно, где-то в мозгу или в подсознании сохраняются какие-то подробности прошлого, и я до сих пор помню запах турецких сигарет, которые курил дядя Маузер, и глицеринового мыла тетушки Селины, помню, в каком порядке были расставлены банки с чаем и давно уж перебитые вазочки с позолоченными ручками; я и сейчас чувствую под пальцами выпуклый греческий узор по краям десертных тарелочек тети Аделины и слышу, как певица Мельба завывает: «Дом, мой милый дом» — в похожей на шоколадного цвета вьюнок трубе граммофона тети Меты.
Я пользовался каждым случаем, чтобы наполнить копилку впечатлений. Я подбирал замечательные фразы, небрежно брошенные среди крошек от пирога, над блюдцами с чаем, я хранил лучезарные улыбки, перехваченные на лету во время пикников, — словом, я обламывал и похищал целыми охапками ветви в полном цвету из сада, где лето казалось нескончаемым и прекрасным. И каким же немилосердно долгим кажется теперь этот мертвый сезон.
Как все дети разветвленного, но обладающего стадным чувством семейного клана, мои двоюродные и родные братья и сестры, и я в том числе, проводили школьные каникулы где угодно, только не в наших шумных гнездах. Нами обменивались, как родственными приветами. Тех из нас, кто жил в пригородах, отгружали к тетям и дядям, живущим в деревне; деревенских же увальней переправляли гостить в город. Все дети — страшные барахольщики. Каждый возвращался домой с какими-нибудь предметами, почти ничего не стоившими, но драгоценными потому, что достались даром. Помню, мои сестры привозили домой пряжки от туфель, кучу мотков шелка для вышивания, костяные спицы, коротки от пудры, облезлых кукол и сломанные веера, все еще источающие запах давно вышедших из моды духов, название которых никто уже не помнил. Братья время от времени привозили заспиртованных в банках ящериц, пустые ящички из-под сигар, страусовое яйцо с резьбой, перочинные ножи с черепаховой ручкой и сломанными лезвиями, прямоугольную теннисную ракетку и, по какому-то торжественному случаю, старое банджо дяди Снайдера. Все это был хлам, но, словно туристские сувениры, он сохранял особое очарование, которого хватало, чтобы скрасить короткий промежуток между праздником и буднями.
Как единственный ребенок в этих шумливых перетасовках, который живо интересовался родней, я был прирожденным архивариусом и оказался белой вороной. Прошлое дяди Снайдера меня занимало куда больше, чем неиграющее банджо. Мне хотелось знать факты, даты, знать, как, где и почему, собрать как можно больше сведений о прошлом живых богов и богинь, которые вызывали у меня уважение.
Наверно, глаза у меня блестели не меньше, чем стекла очков, когда мне дарили карточки с меню званых обедов, масонских обедов и обедов у мэра или старые театральные программки, приглашения на выставки и свадьбы. Мир замедлял свое коловращение, узнав тот факт, что 24-го июня 1911 года тетя Аделина присутствовала на свадьбе. И то, что она до сих пор бывает на свадьбах, придавало моему воображению яркость и глубину. Открытки были особым зерном для моей неутомимой мельницы. Так как в конце девятнадцатого и в начале двадцатого века, в эту эру посылки и коллекционирования открыток, мои тети и дяди были молоды, мне пришлось натыкаться на множество рифов. Вот, например, такая любопытная находка — 13-го февраля 1913 года дядя Гэтлин, живущий на улице Виктории в Северном Уильямстоуне, получил некое послание на открытке, изображавшей негритянку Топси — голова с множеством косичек, похожая на булаву, утыканную шипами, лицо наполовину скрыто огромным полумесяцем — ломтем дыни, а вверху надпись: «Ужас до чего хорошо». Внизу, под пальцами ее босых ног, растопыренными, как пальцы пианиста, надпись кончалась словами: «…в Сент-Килде». На обратной стороне было написано лиловыми чернилами:
«Дорогой Гэт!
Полюбуйся на эту черномазую на обратной стороне!!! Сообщаю тебе, что в будущую субботу к трем часам вся наша теплая компания собирается в „Белом олене“. Повеселимся так, что небу станет жарко!!! Котелок не надевай!!!
Гарри»
Я выпрашивал всякие открытки: Закат на Ниле, Мисс Вилли Берк, Мисс Зена Дэйр, открытки с наклеенными розами из бархата, открытки с кричаще яркими изображениями курортных пансионов или с остротами насчет тещи. Я ретиво охотился за любыми фотографиями — футболисты в полосатых красно-белых фуфайках, точь-в-точь столбики у парикмахерских; тетя Селина в шляпе из страусовых перьев величиной с тележное колесо, а на шее боа, как хомут; дядя Энфилд, который мне помнился как шар в отлично сшитом костюме, с моноклем в глазу; на карточке он щуплый, косоглазый подросток в бархатном костюмчике а-ля маленький лорд Фаунтлерой; тетя Мета — ненакрашенные губы, голые плечи, копна пышно взбитых волос и выпученные стеклянные глаза, как у восковых красавиц в шифоновых гнездышках за стеклами парикмахерских витрин.
Я с таким рвением и упорством продолжал свои домогательства, что моя родня перестала подтрунивать надо мной и даже поощряла мои старания. Меня уже считали чем-то вроде нотариуса. Тетушки после весенней уборки присылали мне целые пачки фотографий; дяди откладывали для меня неясные рыжие снимки («Я — в Леонгате, 1920») пли открытки, изображающие красноносых пьяниц, и раков, семафоривших клешнями из задних карманов их брюк. Все это они выудили из ящиков, где хранились сокровища прожитой жизни — портмоне, страховые полисы, галстучные булавки с опалами, первые любовные письма жен и разрозненные запонки. Меня прозвали профессором и с нежностью щипали меня за ягодицы. Благодаря мне археологические раскопки пикантного и хаотического прошлого стали привычным времяпрепровождением для моих дядей и теток.
Но увы!
На вершине моей крохотной славы, в невзрачном десятилетнем возрасте, я, пчеловод, ужаленный собственной пчелой, влюбился в фотокарточку. Я был глубоко, отчаянно и непоколебимо влюблен.
Эту фотографию я получил от тети Меты вместе с пачкой открыток. Не будь я один в доме, где никто не мог заглянуть через мое плечо, мне, наверное, не довелось бы испытать длительный экстаз, а потом — жестокое разочарование. Но я был один, когда явился почтальон; я в полном одиночестве вскрыл конверт с подарком и среди открыток, изображавших девиц из Варьете, среди любительских снимков — мои дядюшки в котелках, сидящие в повозках и двуколках, и тетки с муравьиными талиями на велосипедах или возле них — я, один в пустом доме, встретил свою судьбу. И то, что случилось в тот день, в ту минуту, уже нельзя было изменить.
Я увидел фотографию. Дверь в тот известный мне протухший мир бесшумно закрылась за моей спиной. Я очутился в преддверии рая. И золотой, сверкающий алмазами трон стал теперь моим. Я понял, что все мои тайные влюбленности были ненастоящими, были выдуманными, были ничем. И напрасно у меня замирала душа от теней — пусть даже одушевленных; от видений! — пусть даже самых радужных, от пустеньких существ, от обманчивой внешности, от облаков кисеи, платьев без женщин, мужских имен без мужчин. С любовью у меня было только шапочное знакомство.
На фотографии была девочка примерно моих лет.
Девочка была в платье с кринолином, и, поскольку она держала в руке пастушеский посох, украшенный большим бантом, я догадался, что она одета для костюмированного бала и изображает ту пастушку из детской песенки, что потеряла овечку. А может, она и есть та пастушка? Но по фотографии не угадаешь. Чуть сдвинутая набок овальная шляпа из лент и розовых бутонов, черные сетчатые митенки до локтя, крест-накрест зашнурованный корсаж — все вызывало во мне романтическое волнение. Но не это всколыхнуло мою душу, открыв в ней еще неведомые мне глубины и пространства, а свет ее глаз и улыбки. Мне даже в голову не пришло, что улыбка и взгляд адресованы стоявшему перед ней на треноге фотоаппарату, похожему на гармонику, который вместе с безымянным человеческим существом был скрыт под черной тряпкой. Нет! Эта слабая, обаятельная улыбка была предназначена — мне. Эти бездонные, но пронзительные темные глаза глядели прямо мне в душу. Шум голосов пронесся по лабиринтам моего сознания, вытеснив все прежние впечатления, наполнив их незнакомыми ароматами и восторженным криком: «Ты!»
— Ты!
Я подслушивал голоса вечности.
Вечность — жертва времени.
Едва наступила вечность, как я услышал голос матери у входной двери. Неторопливо, как матерый преступник, я спрятал фотографию во внутренний карман. Я помнил, что этот карман у меня слева и что божественное лицо нарочно повернуто внутрь. И ее глаза глядели прямо в мое сердце, которое представлялось мне красным, как червонный туз, округлым, как артишок, и сделанным из чего-то такого, что на ощупь было похоже на лепестки магнолии. Я согнал сияние со своего лица, жестом картежника собрал веером остальные фотографии, и, когда вошла мать, я воскликнул — о, прекрасно изображая невинное и простодушное дитя:
— Смотри, что мне прислала тетя Мета!
И ни слова о божестве, глядевшем в мое сердце, — ни одного слова. Я так ничего и не сказал матери. И фотографию, и свою любовь я скрывал семь лет. И — ни разу не выдал себя.
Но так как мои карманы и ящики стола подвергались материнскому осмотру, мне приходилось всегда быть начеку. Сейчас я даже не могу припомнить все тайники, куда я прятал свою любовь, если было невозможно носить ее при себе. Когда я вынужден был расставаться с ней и прятать под бумажную прокладку коробки из-под обуви, где держали шелковичных червей, в подпоротую обшивку гладильной доски или в тяжелую, как гробовая плита, Библию, которую никто не читал, мне казалось, что там ее нежная улыбка растаяла, а смелые глаза стали сонными.
То, что мое поклонение не проходило, а даже усиливалось, было (и осталось) удивительным, так как я с невероятной быстротой опережал ее годами. Во мне изменилось все, кроме моей восторженной влюбленности. А девочка не менялась, хотя ее прелесть приобрела другой смысл: ее глаза открывали мне новые истины, они мерцали, словно перламутровая пленка на черной нефти, и в то же время были неподвижны и таинственны, как бесконечность.
Я изменился. И все мои родственники тоже. С первого взгляда казалось, что их оживленность, бодрость, энергичная жестикуляция и жизнелюбие остались неизменными. Но если всмотреться, оказалось, что позолота изрядно стерлась или появились тонкие, как волосок, трещинки. Словно тарелки, которые передержали в горне для обжига, вид моих дядей и теток из тех, кто постарше, доказывал, что они слишком долго пробыли в горниле жизни. Чем больше набегало морщинок вокруг глаз, чем больше редели или покрывались сединой волосы, раздавались вширь или усыхали тела и клонились к земле — последнему своему пристанищу, — тем чаще я замечал, что они становятся все болтливее и шумнее. В их веселье появился оттенок вульгарной развязности, они беспрерывно хохотали, забывая, над чем и отчего; впрочем, это уже не имело значения. По-видимому, никто не решался спросить: «А почему, собственно, мы смеемся?» — и смех не умолкал. Все эти эпохальные светила, согревавшие мое раннее детство, приближались к закату по небу, багровевшему от сдержанного гнева.
Самой бойкой из этих угасающих светил была тетя Марта. Весь семейный клан давно уже прозвал ее Веселой Вдовой — довольно необычное прозвище среди множества супружеских пар. Мне то и дело доводилось подслушивать или выслушивать, что муж тети Марты был красив, обаятелен, богат, талантлив и так далее. Я пришел к выводу, что умершие непременно обладают всеми качествами, которых почти не бывает у живых, а если и бывает, то далеко не все. Можно подумать, что избыток хороших качеств является непременным условием для смерти. Это так трагично, повторяли все, что он умер через два месяца после свадьбы. Он и милая Марта, в один голос утверждали все, были отличной парой и безумно любили друг друга. Как я узнал, Марта сначала искала утешения в путешествиях, потом в путешествиях и портвейне, а в конце концов не столько в путешествиях, сколько в портвейне, и… тут голоса понижались, но я, напрягая слух, все-таки услышал… и в молодых людях.
Я видел ее не часто. Она всегда была вызывающе накрашена. Ее хриплые сарказмы были ужасны. От ее мехов, в которых поблескивали злые глаза лисьих морд, уткнувшихся носами в свои драгоценные туловища, пахло крепкими духами; под лайковыми перчатками выпирали кольца. Она курила нежно-голубые, желтые и сиреневые сигареты с золотым фильтром. Она стала позором семейного клана. Она была членом семьи, но к ней относились как к домашнему зверьку с какими-то странными пороками. Впрочем, добродетели так же неотвратимо старят и добродетельных: простодушие переходит в раздражительность, привычки — в наигранность, милые шалости — в назойливые чудачества.
Что до меня, то я был в той поре, когда в пушок на верхней губе втирают вазелин. Я стал пользоваться бриллиантином — для моих родителей это было равносильно курению опиума. Я страдал по кастовым знакам взрослых — по запонкам и наручным часам; в то короткое время я принадлежал к себялюбивой, жалеющей только себя, невыносимой породе людей, которая лелеет одиночество и скуку и в которой пробиваются мощные ростки всех главных пороков человечества. Я был юношей в угрюмом семнадцатилетнем возрасте.
Все мои пороки: заносчивость, неэстетичность, грязные мысли и абсолютная никчемность — находили прощение только у фотокарточки. Я невыносимо повзрослел, я впервые надел длинные брюки, и мать уже не обшаривала мои карманы с криком: «Долго ты будешь таскать этот мерзкий платок?»
Поэтому фотография могла спокойно лежать прямо у меня на сердце, в сафьяновом бумажнике, который подарил мне дядя Ланкастер. Глаза, в которые я семь лет так часто глядел, по-прежнему сияли лунным светом и по-прежнему сообщали мне пророческие истины; улыбающиеся губы, казалось, все еще шептали: «Ты!» — и сулили все подтверждения этому, весь покой, всю мудрость и всю любовь.
В то время, когда усы у меня еще не пробились, бриллиантин все еще был сущим проклятием для моей матери, на руке так и не было часов и каждый день сулил пытку скукой, — в то время в наш провинциальный городок приехала тетя Марта.
Однажды перед вечером, когда мы сидели за обедом, раздался телефонный звонок. Мать встала из-за стола и вышла к телефону. До нас донеслись ее восторженные восклицания. Она вернулась помолодевшая, с розовыми пятнами на щеках. «Расстроена», — определили мы по этим пятнам. Отца не было дома. Мать была в наших руках. Мы, все шестеро, с особым выражением уставились на нее. Мать мужественно выдержала наши взгляды.
— Тетя Марта приехала, — сказала наконец она довольно небрежным тоном, не садясь за стол. — И прекратите это. Немедленно. А то я скажу папе. Уберите это нахальное выражение с ваших нахальных физиономий.
— Мамочка, ты сядь, — заговорили мы. — Отдохни, мамочка. Соберись с мыслями. Не робей. Говори самое худшее, мамочка. А то мы скажем папе.
Мать не стала садиться.
— Прекратите, — сказала она. — Сию минуту. Или я закричу на весь дом, — Она как бы по рассеянности взглянула на часы. — Тетя Марта здесь проездом в Сидней. Ночевать будет в «Терминусе».
—А-га! — сказала моя двенадцатилетняя сестренка. — Она такая душенька, да? Она приехала навестить бедных родственничков?
— Нет, — отрезала мать. — Как ты смеешь, барышня? — И мать села, сложно ей больше ничего не оставалось делать. — Она говорит, что очень устала.
— Она такая до-обренькая…
— Прекрати! — крикнула мать. — Как ты смеешь Думать, что Марта… как вы смеете, мисс? У нее была такая трагическая жизнь… — Она попыталась было прослезиться, но вместо того удовлетворенно потрогала кончинами пальцев свои короткие, завитые сегодня волосы. И мысленно перебирала свой гардероб.
— Который час? Эти часы спешат, или отстают, или идут правильно? Мне придется ехать, надо же ее повидать.
«Мне очень хочется ехать, — перевели мы, — и я сгораю от любопытства».
Как старший сын и представитель главы семьи, я поехал с матерью.
Отель «Терминус» был замершим ульем. В гостиной, где несколько пальм создавали впечатление зачахшего зимнего сада, не было ни души, кроме тети Марты и какого-то молодого человека. Они сидели в глубоких плюшевых креслах, и, судя по их виду, сидели очень долго. Между ними стоял индийский медный столик с бутылкой и бокалами и пепельница с рекламой виски, полная окурков со следами губной помады и дымившаяся, как мусорная куча.
— Мои дорогие! — сипло воскликнула тетя Марта, тяжело вставая с кресла. И чуть тише, уголком рта, сказала: — Ты, дубина, встать надо, когда входит дама.
Из-под горизонтальной брови, одной над обоими глазами, молодой человек метнул на нее знакомый мне взгляд — такие же взгляды я метал на мать, когда она объявляла посторонним, что я пишу стихи или грызу ногти. Молодой человек со смазливым, но тусклым лицом неуклюже поднялся.
Все, что происходило потом, не представляет особого интереса.
Тетя Марта была изрядно пьяна. Несмотря на пятьдесят лет, фигура ее довольно хорошо сохранилась. Платье и туфли подобраны со вкусом, который стоит больших денег. Ее тускло-черные волосы были завиты барашком; краска и завивка, очевидно, тоже стоили немало денег.
Мы являли собою неслаженный квартет, но, чем бы ни был чреват этот вечер, тетя Марта и моя мать явно не думали об этом. Единственный тетин упрек молодому человеку быстро канул в молчание. Она представила его нам как Ивана такого-то, но сама с почти супружеской насмешливостью называла его «И-фаном». Казалось, ближе к ночи, неторопливо идя к постели, она могла бы остановиться и сказать: «О, господи! Мой И-фан! Чуть его не забыла!» — словно речь шла о зонтике. Должно быть, она забывала множество таких зонтиков.
Голоса сестер перекрывали друг друга, они болтали без умолку, и все о семье, о семье, о семье. Они хихикали, они даже взвизгивали. По диагонали сквозь их болтовню И-фан односложными словами знакомил меня с тяжелой атлетикой. Для меня это было китайской грамотой. Я сидел с каменным лицом. Он надвинул на глаза свою бровь, словно капюшон, и, скрывшись под ним, дул коньяк. Тетя Марта бокал за бокалом пила портвейн. Моя мать со словами: «Нет, нет, Марта! Больше ни капли, а то я на ногах не устою» — выпила вторую, третью, а затем четвертую рюмку коньяка. Мне было разрешено выпить два стаканчика имбирного пива.
Мое увлечение жизнью родственников с возрастом прошло, тетя Марта меня не только не интересовала, но даже вызывала скуку, стыд и отвращение. Передо мной был классический образец безнравственности. Что-то колыхалось в ее лице, похожем на обветшалую резину, оно гримасничало, подмигивало, от смеха собиралось в складки и все же было мертвым: Помада с извивающихся губ посередине стерлась, обнажив их лиловый цвет. Иногда в ее глазах вспыхивал темный пламень, но это была иллюзия — они у нее просто бегали. Они не решались остановиться под голубыми блестящими веками.
Все это мне смертельно надоело, и я попытался спугнуть мать, напомнив ей о себе и о позднем времени. Я вынул свой бумажник и развернул его жестом взрослого мужчины. Этот жест остановил мать на полуслове.
— Я хочу купить еще… — я не мог вспомнить ни одного названия спиртных напитков, — …еще бутылочку.
— Ах, какой проказник! — воскликнула тетя Марта. — Знаешь, Долл, он будет красавчиком, даже в очках. Милый мальчик, ты не должен тратить свое состояние на гадких богатых теток.
Она протянула руку, выхватила у меня бумажник и помахала им, держа за уголок большим и указательным пальцами. Это было не более чем старомодная игривость «под девочку», жеманство в стиле Лили Лэнгтри, но на меня оно подействовало, как землетрясение, я был просто уничтожен. Из бумажника на медный столик упала моя тайна, мое безмолвие, моя мечта и семилетнее обожание, фотография девочки с целомудренным взглядом и улыбкой — улыбкой моей первой любви.
Я был слишком потрясен, чтобы схватить ее, спрятать, спасти.
— А он — темная лошадка, Долл, — сказала тетя Марта, беря фотографию. — Казанова. Это его любовь! — Прищурясь, она разглядывала фотографию, держа ее на расстоянии вытянутой руки.
— Кто? Кто это? Кто? — Мать протянула руку.
Это была минута, когда впервые жизнь перестала казаться мне прекрасной.
Жизнь внезапно и свирепо оборачивает к нам свое лицо и широко распахивает глаза. И ничего нельзя в них прочесть, кроме уничтожения, и всеотрицания, и перспективы стать полным ничтожеством. Душевный покой — это ложь, такого не бывает. Боги повержены в прах. Украшенный драгоценными камнями трон из блаженных снов стал просто камнем на пустыре. Цветы, которые, казалось, усыпали твой путь, стали вовсе не цветами, а пожухлыми листьями, которые исступленно взлетали в пустоту, и кружились в пустоте, и, изнемогая, падали на землю. Так впервые осознаешь, что ты смертен и что единственное, чего никто у тебя не отнимет, — это смерть.
— Кто? — спросила тетя Марта, с мерзкой ухмылкой глядя на фотографию. — Гляди, Долл. Гляди на эту красивенькую хмурую чудачку.
— Где ты это взял? — спросила мать.
— Нашел. Я ее нашел, — сказал я голосом, охрипшим от ненависти и лжи. — Я нашел ее в ящике стола. Где раньше лежали старые фотографии. Сегодня днем.
— Помнишь, Долл? — спросила тетя Марта, допивая свое вино, — На вечере у Лолли Эдвардс? Черт возьми, я ни за что не стану кричать на всех углах, как давно это было. А ты была Золушкой. Помнишь, Долл? Покажи И-фану, какой я была душкой.
И пьяная женщина с помутневшими от алкоголя глазами растянула дряблые мускулы накрашенного рта и хрипло захохотала, и сердце мое разорвалось.
Перевод Н. Треневой
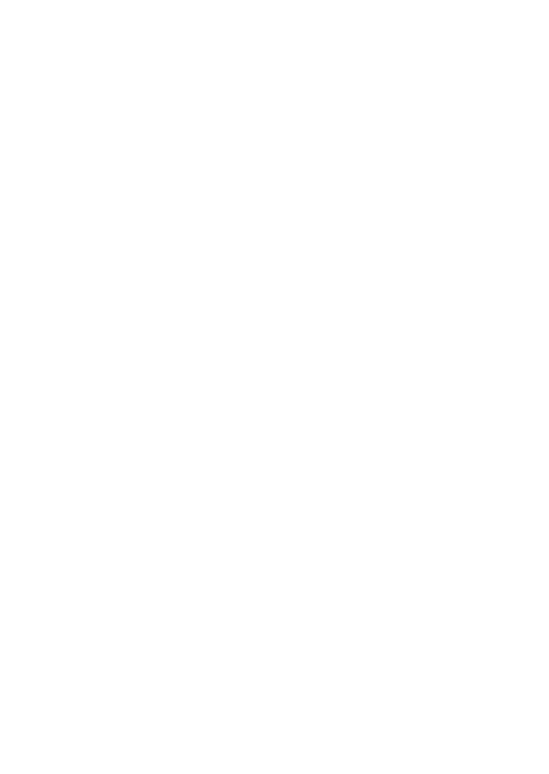
Каролина СВЕТЛА
Чешская писательница Каролина СВЕТЛА (Karolína Světlá; настоящее имя — Иоганна Роттова (Johanna Rottova), по мужу — Мужакова (Mužáková) 1830-1988 гг. — псевдоним известной чешской писательницы-романистки; старшей сестры писательницы Софии Подлипской. Произведения Каролины Светлы отличаются богатством фантазии, глубиной психологического анализа и художественностью изложения. Её сфера — изображение сельской народной жизни. Написала около 50 романов и повестей. Лучшие из них: «Nèkolik archůz rodinné Kroniky» (1859), «Laska k basnikowi» (1860), «Prwni Czeszka» (1861), «Na uswitie» (1865), «Rozcesti» (1866), «Wesnickà roman» (1867), «Kriz u potoka» (1868), «Zitrzenka» (1868), «Kanturczice» (1869).
Чешская писательница Каролина СВЕТЛА (Karolína Světlá; настоящее имя — Иоганна Роттова (Johanna Rottova), по мужу — Мужакова (Mužáková) 1830-1988 гг. — псевдоним известной чешской писательницы-романистки; старшей сестры писательницы Софии Подлипской. Произведения Каролины Светлы отличаются богатством фантазии, глубиной психологического анализа и художественностью изложения. Её сфера — изображение сельской народной жизни. Написала около 50 романов и повестей. Лучшие из них: «Nèkolik archůz rodinné Kroniky» (1859), «Laska k basnikowi» (1860), «Prwni Czeszka» (1861), «Na uswitie» (1865), «Rozcesti» (1866), «Wesnickà roman» (1867), «Kriz u potoka» (1868), «Zitrzenka» (1868), «Kanturczice» (1869).
СКАЛАК
Селение Подборы лежит на холмах, над ним теснятся высокие лесистые горы, а внизу тянется веселая зеленая долина — до самой Золотой Горы. Так называется отвесная высокая скала, что возвышается напротив этой деревни: будто чистое золото, сверкает она под лучами яркого солнца.
Влево от скалы среди ольшин и буйных трав раскинулась большая усадьба «На лугах», а прямо над нею стоит запустелая хибарка Скалаков.
Хозяев ее зовут совсем иначе, но как — никто в Подборах, за исключением приходского священника, не знает. Наверное, и сами они этого уже не помнят, — привыкли к тому, что люди кличут их Скалаками, поскольку возле скалы они живут. Это, в сущности, и хорошо, что Скалаки забывчивы, — ведь славная усадебка по соседству, со всем, что к ней относится, принадлежала когда-то их семье. Одну ее половину прокутил и проиграл в карты прадедушка, с другой половиной, по его примеру, точно так же обошелся дедушка, оставив сыну только старую овчарню, из которой тот слепил себе жалкую хату, а нынешний Скалак, видно, о том только и мечтал, чтобы и эта детям целой не досталась.
Пошел он в предков, и лучшего места, чем трактир, для него в целом свете не было. Жена отупела от нужды и детского крика (было у нее этих пострелов десять) и тоже махнула на все рукой. Диво ли, что однажды в доме и затопить стало нечем: ведь идти за дровами в лес на гору— не ахти какое удовольствие.
Скалак не раздумывал долго: не найдя во всем хозяйстве ни ветки, ни прутика, влез на кровлю и вытащил оттуда, что смог. Когда же дранка кончилась, начал ломать стропила; затем дело дошло до чердачной лестницы, потом до крыльца, а когда сошел снег, остались от хибарки лишь четыре стены да хлев.
Только тогда это дошло наконец до его жены, хотя разговорами обычно она ему не слишком докучала.
— Нам чем хорошо? — молвила она ему однажды ночью, в страшный ливень, когда, прокочевав по всей горнице, они не сыскали клочка сухого места. — Вместо одеял у нас облака.
— Молчи, молчи, старуха. — ответил Скалак. — Не успеешь оглянуться, как будешь спать в превеликом и превысоком каменном доме, которому поистине не будет равного во всей Чехии.
— Ладно уж городить-то, — проворчала Скалачиха; она думала, что скорее всего в нем опять говорит хмель. Игрывал он по окрестным корчмам на скрипке и там подчас набирался так, что и света божьего не видел, а заработок его перекочевывал в карман к трактирщику. Удивительная, беспокойная кровь текла в жилах у этих Скалаков; были они, как говорится, на большое копыто кованы, над всеми хотели верх одерживать, всех поучать, словно были все еще хозяевами усадьбы. А у самих сапоги просили каши, и хорошо, если они хоть раз в день наедались похлебки из ржаной муки. Прочим односельчанам это не нравилось, и без надобности с ними дела никто не имел. Они это знали и также старались избегать людей, особенно тех, кто вел тихую, размеренную жизнь, деньгу к деньге складывал, в трактире не показывался, а карты держал для уловления злых духов. Эти люди были Скалакам немым неприятным укором, хотя и куражились они и виду не подавали.
Совсем уже забыла Скалачиха про ночную беседу с мужем, как вдруг однажды он привел на двор каменщика.
— Если вы построите мне, как я вам уже говорил, каменный дом с каменной лестницей на чердак, то я вам за это уступаю вынутые камни, и можете строить из них что хотите. Но, скажу вам, добавлять я ничего не намерен.
Каменщик сначала поломался-поломался, а потом ударил по рукам.
Скалачиха решила, что мужики так только дурачатся, и, даже не дослушав их, пошла по своим делам.
Через день каменщик начал долбить скалу. Ее это не удивило: когда у каменщика была поблизости какая-нибудь работа, он всегда ломал здесь камень, и Скалаку иной раз перепадал от него грош-другой. Ей и в голову не пришло, что он прорубал с одной стороны отверстие величиной с дверь и оконце словно для хлева, а с другой — два окна побольше, вроде как для горницы; потом в той же скале каменщик вырубил ступеньки.
— Дом готов, можете переезжать хоть сегодня; все равно не дождетесь, когда высохнет, — буркнул каменщик, доделав последнюю ступеньку.
— Вот и славно, — обрадовался Скалак, подхватил одной рукой скрипку, а другой — самого младшего из детей, велел жене и остальным ребятишкам собрать одежду и скарб и повел их из хибары по тем каменным ступеням наверх.
Тут только разглядела Скалачиха, что сделал каменщик из песчаника человеческое жилье, и догадалась, что это и есть тот самый большой, высокий каменный дом, который тогда обещал ей муж.
— Ну, что глядишь, как пять крейцаров из кошелька? Чем не замок, которому нет в Чехии равного? — смеялся Скалак, в то время как дети, дивясь каменной скамье, вытесанной вокруг всей стены, раскладывали убогие пожитки.
Скалачиха тоже хотела улыбнуться, да улыбки не получилось — из глаз у нее закапали слезы. Вспомнила она, какую добрую справу дали ей когда-то родители, хоть и были они небогаты. Вспомнила, как сетовали они, когда она ни за кого не хотела идти, кроме Скалака. Твердили ей, что пустит он ее по миру, что человек он недостойный. Благо родители давно умерли: каково бы им было видеть, что у их дочки и крыши-то нет над головой, что должна она лезть, как зверь, в каменную нору.
Скалачиха утерлась дырявым передником, и вспомнилась ей дырявая крыша старою жилья. Перестала она плакать да горевать. В скале над ней хоть не капало. Может, и хорошо, что не забивала она себе голову мрачными мыслями? По крайней мере много слез сберегла.
— Летом здесь будет славный холодок, а зимою тепло, — пообещал ей муж и попал в самую точку. Правда, зимой стены и скамьи блестели, будто их кто серебром оковал, летом же с них все время струйкой стекала вода.
Но Скалачиху и это не расстроило; наоборот, она была довольна. Муж выдолбил для этих скальных ключей желобки. Они стекали в небольшое корыто, и ей не нужно было ходить по воду в долину: вода всегда была под рукой. Правда, была она не слишком прозрачной и свежей, ну да подобные мелочи не беспокоили ни его, ни ее, потому и сносили они разные беды наперекор всему.
Детям, однако, никак не шли на пользу ни та вода, ни то новое каменное жилище. Они бледнели, лица и суставы у них опухали, а на шее появились язвы. В первую зиму смерть прибрала младшего ребенка, в следующую — одного из старших, потом осенью, которая была на редкость сырая и холодная, — двух девочек, двойняшек; так оно и шло по порядку, пока из всех десяти сильных, здоровых детей не остался один-единственный мальчик, Яхим.
Скалак не показывал вида, что тоскует по детям, но где-то внутри у него стало тягостно и холодно. Этот холод и это тягостное чувство он заливал водкой, и водка ему помогала. Но как-то раз холод сковал его так, что он должен был принять внутрь больше обычного. Долго блуждал Скалак в ту ночь, прежде чем нашел скалу. Когда же он наконец счастливо добрался до ступенек, то поскользнулся на влажном камне и разбился, да так ужасно, что пролежал много недель и в конце концов после долгих страданий умер. Соседи толковали, что ничего лучшего он и не заслужил.
— Это несчастное жилье довело до могилы и мужа и ваших детей, — молвил священник, когда после похорон Скалачиха с плачем целовала ему руку за то, что он по мужу бесплатно отслужил молебен, да еще и такое прекрасное погребение ему устроил.
— А если вы не хотите лишиться и Яхима, вам нужно его отдать в люди. Возьму-ка я его сам на некоторое время, мне как раз пастух нужен. Надеюсь, мои работники к нему привыкнут, а он к ним. А то мне всегда было неприятно, что Скалаков род сторонится людей, да и люди его остерегаются. Такой раздор меж соседями мне никогда не был по сердцу.
Скалачиха заплакала снова, на этот раз от радости, что ее дите будет служить в хорошей усадьбе. Придя домой, она связала Яхиму в узел его лохмотья, дала ему изрядного тумака, когда он стал кричать, что служить не будет, и отвела его, хоть он и упирался, в деревню.
Яхим был красивый, черноволосый мальчик, весь в отцовскую родню, несколько бледный, с тонкими, ловкими руками и ногами, с глазами черными как уголь. Лишь одно его безобразило, как полагали деревенские жители, — это брови, которые срослись в одну ровную черную линию. По этим бровям его все узнавали сразу: кроме как у Скалаков, ни в одной семье такой приметы не было.
Увидев, что помощи ждать неоткуда, что мать его обратно не возьмет, он перестал плакать, но много дней подряд от него нельзя было добиться ни слова. Упрямо молчал он в людской и с хозяевами держался замкнуто, недружелюбно. Мальчик прекрасно сознавал, что первым из Скалаков пошел в услужение, и ненавидел тех, кому вынужден был подчиняться.
Когда впервые вместе с другими ребятами Яхим погнал стадо на пастбище, ему пришлось худо. Неприязнь взрослых к Скалакам передалась и детям, поэтому Яхим среди прочих пастухов чувствовал себя отверженным. Каждый, кому не лень, мог его обидеть — ведь это Скалаково отродье! Яхим, однако, скоро все переиначил, действуя, где силой, а где — хитростью.
Мальчишки, которые на пастбище набрасывались на него и колотили, вечером, посланные отцами за табаком или пивом, обязательно попадали в яму, которой прежде никогда на дороге не было и которую, с расквашенными носами и расшибленными лбами, они напрасно искали наутро; а то наступали на стекло и ранили босые ноги. Иногда на голову им сыпался град камней, совершенно непонятно откуда, так что ребятишкам не оставалось ничего другого, как бежать без оглядки; а то вдруг набрасывался на них разъяренный пес и рвал одежду, и так далее. Не нужно было долго ломать голову, кто причина всех этих случайностей; ребята возвращали Яхиму свои кровавые долги, однако каждый раз ненадолго. В конце концов они поняли, что с ним шутки плохи, недаром он Скалак.
Тогда пастушата решили оставить его в покое; но Яхим отнюдь не был удовлетворен. Несправедливая вражда товарищей возбудила в нем жгучую ненависть, и он их с наслаждением изводил, дурачил и мучил до тех пор, пока не добился, чего хотел: все на пастбище подчинялись ему, и он командовал теми, кто когда-то считал его ниже себя.
Отчасти Яхим верховодил по справедливости, поскольку был сильнее и ловчее прочих. Он учил пастухов разводить костер, забираться на деревья, узнавать, где гнездится та, а где иная птица, сколько яичек несет у них самочка и чем они различаются. Никто не умел лучше подражать голосу этих маленьких певцов, никто не умел вырезать такой звонкой свистульки или сделать кнут, который хлопал, словно выстреливали сразу из десяти пушек, и ни у кого не было такого ученого пса, как у него.
Все это принесло ему истинное уважение товарищей, но и немалую зависть; и когда один спрашивал: «Тебе нравится Яхим?», то другой отвечал: «Да что ты, я этого Скалака терпеть не могу!»
— И почему вы его не выносите? — спросила однажды Кучерова Розичка, когда ребята заговорили о нем. — По-моему, он вот ни на столечко не хуже вас.
— Вы посмотрите-ка на эту девчонку! — рассердились ребята. — Еще и указывает! Это тебе даром не пройдет, хоть ты из богатой усадьбы! Помалкивай, не то получишь хорошею пинка!
Розичка была разумная девочка. Она в то время не загадывала наперед, но с этого дня стала приглядываться к Яхиму внимательнее и в глубине души продолжала считать, что ничем он не хуже прочих и не заслуживает такого плохого отношения.
Однажды господа затеяли охоту. Дети пасли стадо неподалеку и с удивлением слушали, как ружейный гром разносится по горам, словно двадцать бурь взревели сразу; считали выстрелы, доносившиеся к ним из затянутой туманом долины. Вдруг что-то затрепыхалось в зарослях, где они всей гурьбой сидели у костра и пекли картошку, и подраненная куропатка влетела Розичке прямо в подол.
Девочка испугалась, но когда увидела, что это просто раненая птица, участливо прижала ее к себе, а затем осторожно укутала в свой передник.
— Ого, славное будет жаркое! — кричали ребята, пытаясь завладеть куропаткой.
— А я ее не отдам, не отдам! — восклицала девочка, полная жалости к несчастной птице.
— А ну, попробуй! — подступали обозленные мальчишки. — Не отдашь по-хорошему, отнимем силой.
— Ни за что не отдам, делайте со мной что хотите, — плакала Розичка и еще крепче прижимала к себе куропатку.
— Не отдашь? А если я тебя вот этой дубиной? — воскликнул Яхим, сверкая глазами. И погрозил ей страшной суковатой палкой.
— Не отдам! — прошептала девочка и зажмурилась, словно ожидая удара. Мальчики захлопали в ладоши, радуясь, что Яхим хорошенько отплатит Розичке за ее упрямство. Но дело повернулось совсем иначе, чем они ожидали. Яхим взглянул на девочку внимательно и удивленно.
— Ну, пускай будет твоя, — пробормотал он затем и опустил глаза, словно сам стыдился своей уступчивости. — А кому не нравится оставаться без жареного, пусть скажет, — добавил он с прежней яростью и покрутил дубиной так, что в воздухе засвистело, — пусть только пожалуется, я ему поднесу другое угощение, хоть и не такое вкусное.
Никто не посмел перечить, и Розичка унесла куропатку домой. Она ее выходила, и забавная птица всюду бегала за ней, как собачонка.
— Вы бы уж молчали, — говаривала Розичка с той поры парням, когда они снова честили Яхима, — ведь у него изо всех вас самое доброе сердце.
Розичка была милая девчушка. Не было в ней ни капли спеси и зазнайства, хотя она хорошо знала, что богаче ее нет невест во всей округе.
Отец ее давно умер, завещав, чтобы все его имущество и усадьба достались Розичке, в случае если его жена выйдет за другого.
Мать Розички была миловидная, моложавая женщина и не видела причин отрекаться от света, поскольку недостатка в охотниках до приданого, которое ей досталось еще из родительского дома, она не ощущала. Не прошло и года, как она вышла замуж и поселилась с новым супругом «На лугах»; люди, правда, поговаривали, что поступила так она не столько из любви к дочке, сколько заботясь о младших детях.
Едва Розичка окончила школу, как женихи к ней повалили гуртом. Тот ее сватал за сына, этот — за дядю, третий — за брата, четвертый — за самого себя. Розичка могла попасть и на мельницу, и в пивоварню, и в дом чиновника, и даже в город, если бы захотела выйти замуж за одного домовладельца, который, ко всему прочему, вел обширную торговлю. Но девушка всякий раз отклоняла предложения, говоря, что еще успеется, что замужество от нее никуда не уйдет, а пока нужно насладиться свободой и молодостью. Стоило на дворе показаться свату, она исчезала и не появлялась до тех пор, пока за сватом не захлопывалась калитка.
Мать и отчим были этому рады. Для них не в пример лучше было бы, если бы девушка и вовсе не вышла замуж и все имущество досталось их детям. Они обхаживали ее и так и этак, желания ее были законом для всех в доме.
Розичка не представляла себе, как это можно, чтобы кто-нибудь взглянул на нее косо. Кто бы ни поглядел, будь то свой, будь чужой, каждый непременно ей улыбался, хоть и не всегда от сердца. Ведь они улыбались будущей владелице усадьбы «На лугах», а там кто знает…
Поскольку Розичка скотину уже не пасла, то Яхима она видела лишь изредка, однако часто вспоминала о нем и о его проделках и думала, какое все же у него доброе сердце, несмотря на все его выходки. Да и он уже не ходил на пастбище со скотиной — стал у священника младшим батраком, но по-прежнему дичился, и все по-прежнему сторонились его, потому как он задирал и встречного и поперечного. И вел он себя так же, как раньше на пастбище — наскакивал на всех, потому что в каждом видел недруга; надо всеми насмехался, чтобы никто первый не поднял на смех его самого. Яхим из кожи вон лез, лишь бы только все забыли, что он Скалак. А одновременно позволял себе дикие выходки, доказывавшие всем, что он точно такой же, как были его деды и прадеды. Словом, ужиться с ним было трудно. Не завелось у него ни единого приятеля, и когда в усадьбе происходила драка, никто не хотел за него заступиться. Он только усмехался, делая вид, словно рад этому, однако Розичке чудилось, что смех этот не от чистого сердца. Боже сохрани, она не обронила ни слова; она и глянуть-то на него не смела, не то чтобы пожалеть.
— Что ты смотришь на меня, будто первый раз видишь? — раскричался он однажды, догадавшись, что она читает в его душе, и ухмыльнулся так зловеще, что она похолодела. «И кто бы подумал, что у него доброе сердце, когда он так ершится?» — подумала Розичка и отошла прочь, не начав задуманного разговора.
Священник (это был, как и водится, достойный человек и истинный пастырь своих прихожан) часто сокрушался, видя, что не может Скалака приучить к людям. Часто убеждал он Яхима, чтобы тот бросил свои дурные замашки: тогда бы люди оценили его ловкость и умение, поняли бы, какой он искусный и проворный парень, — всех богатеньких сынков заткнет за пояс.
— Какой есть, такой есть, — отвечал Яхим с вызовом, — коли бог хотел, чтобы я был другим, другого бы и сотворил.
Когда же священник его от себя не отпустил и вновь попытался воззвать к его совести, Яхим резко ответил, что он не в костеле, чтобы слушать проповеди.
— Да, теперь я вижу, — промолвил огорченный священник, — что из тебя до самой смерти ничего путного не получится. Яблочко от яблони недалеко падает.
Тут Яхим набросился на него с такой яростью, словно хотел задушить; на счастье, старший работник схватил его и увел.
Такой проступок нельзя было обойти молчанием. Яхима вызвали в управу и осудили на трое суток заключения, для острастки.
— По-настоящему, ты заслуживаешь трех лет тюрьмы, — сказал ему начальник, который вел допрос.
— А чего заслуживает тот, кто позорит отца перед сыном? — дерзко спросил его Яхим, и начальник велел поскорее отвести паренька в холодную, чтобы дальнейшими вопросами тот не поставил его в затруднительное положение.
Выйдя из заключения, Яхим остался не у дел. Ни за что на свете он не стал бы просить бывшего хозяина взять его обратно, хотя тот только того и ждал. В других местах на службу его взять не захотели, батраком тоже не брали: ведь он, где бы ни поденничал, везде хотел командовать. Яблочко от яблони недалеко падает. Попалась ему расстроенная отцова скрипка. Умел он на ней, к счастью, сносно пиликать, вот и потянулся от корчмы к корчме, точно так же, как и отец прежде. Что зарабатывал, то уплывало в тот же вечер; что не пропивал, то проигрывал в карты; что не проигрывал, шло веселым девкам на сласти. Передрался он со всеми, кто на него косо глянуть посмел, и воротился в родительскую пещеру, лишь когда платье превратилось в лохмотья, а сам он от ран и синяков не мог уже двигаться.
Повалился он на сырую солому, предоставив матери латать ему одежду, стирать рубашки и перевязывать раны. А чуть встал на ноги, подхватил опять свою скрипку и снова принялся кутить, играть в карты и буянить. Некоторое время спустя пошли слухи, что он таскается по округе с какой-то цыганкой-арфисткой и что она его содержит.
Розичка все это слышала от детворы, и каждая такая весть, как нож, вонзалась ей в сердце. Всяк его корил, всяк хаял. Только она одна знала, что не злой он, и ей было больно, что никто кроме нее этого не понимает; она почти гневалась за это на соседей.
Настал праздник Святого духа. Для горных мест это такая же пора, что для равнины май: леса зеленеют, из-под камней пробиваются цветы, каждый прутик словно обернут лепестками, а по лугам и пройти нельзя — трава поднялась чуть не по пояс, а пестро так, что в глазах рябит.
На первое богослужение Розичка пошла, против своего обыкновения, к ранней обедне, между тем как парни и девушки бывают у поздней. Они приходят в красивых нарядах, сговариваются, где и на каких посиделках встретятся вечером. Но Розичка была набожна; в такой большой праздник хотелось ей помолиться. А для этого гораздо лучше побыть в костеле в ранние часы, когда собираются здесь люди постарше.
Утро выдалось прекрасное. Горы уже сверкали под солнцем, но в долине было еще холодно и сыро, и луговые цветки, обрамлявшие дорогу, склоняли к самой земле свои чашечки, отягченные росой.
Но ярче всех вершин сверкала Скалакова гора. Посмотрев в ту сторону, Розичка вздохнула. В тот же миг чуть ли не из-под ног у нее неожиданно взвился жаворонок, и в голубом небе полилась веселая песня. И от этой песни на глазах у Розички выступили слезы, словно тяжелые капли росы. Вспомнила она Яхима — ведь когда-то на своей свистульке он подражал голосу этой птахи, а нынче какие тоскливые и зазорные песни выводит его скрипка в вонючих, грязных трактирах, и какие, наверное, дурные женщины его тянут за собой и позорят на весь белый свет!
От этих мыслей ей тяжко, будто холодный камень на грудь навалился. И не осталось уже радости от встречи с прекрасным утром, и вот, вместо того чтобы идти к костелу, свернула она на узкую тропку, что вела в рощу, чтобы не встречать знакомых и от посторонних взоров укрыться. Не хотелось ей, заплаканной и грустной, попадаться сейчас на глаза людям. Еще стали бы расспрашивать, что с ней, а этого она сказать не могла. А если бы все узнали, что плачет она из-за того негодяя, от которого последняя девчушка в поместье нос воротит? Наверняка осудили бы за мягкосердечие и слабость.
В роще было еще прекраснее, чем в поле. Солнце касалось лишь самых высоких верхушек деревьев, всюду прохлада, тишина… А запах… Розичка шла все спокойнее и спокойнее, и все меньше хотелось ей снова очутиться между людьми.
«Ах, да ведь повсюду храм божий, — подумала она наконец, — помолюсь-ка я сегодня под этими тенистыми деревьями; эти своды надо мной куда красивее каменных сводов в костеле». Она зашла подальше в глубь просеки, чтобы ей никто не помешал; опустилась на колени под молодым буком. Там, наверху, только что проснулись в гнезде два диких голубя. Они сладко и нежно заворковали, и девичья молитва вознеслась к небу, словно жаворонок со всходов. Вдруг ей послышалось, будто тяжко вздохнул кто-то; она огляделась, но поблизости никого не было. Розичка снова молитвенно сложила руки и обратилась душой к небу, но снова раздался тяжкий, горестный вздох. И опять она никого не увидела. Но молиться больше уже не могла; кто-то и впрямь был неподалеку и очень страдал. Скорее всего, шел человек в костел, по дороге ему сделалось плохо и вот теперь он лежал на земле, не в силах идти дальше. Розичка быстро встала, осмотрелась и увидела: поодаль, в цветущей ежевике, что-то черное шевелится. Она подошла поближе — и правда: лежит в кустах ничком мужчина, одежда на нем рваная, грязная. Нет, про этого не скажешь, что он занемог по дороге в костел! Она уже хотела было повернуться и уйти, но тут увидела раздавленную скрипку…
Стрелой метнулась Розичка к лежавшему — поглядеть ему в лицо. Да, это был Яхим. Но его трудно было узнать: лицо опухло — видно, ушибся, когда падал, — исцарапано, в крови. Верно, возвращался под утро из корчмы, да ноги отказались подчиняться дурной голове; свалился в опьянении, не смог встать и выпутаться из зарослей ежевики — так и уснул под открытым небом.
Розичка обвела взором лес, взглянула на небо и снова посмотрела на парня. Да, он, только он был единственной скверной среди всей этой благодати, он, Яхим!
Все сверкало: цветок — росой, птица — песней, небо — солнцем, лишь он не ведал ни о чем, даже о себе, лишь он не видел и не слышал, лишь он валялся тут, не владея ни телом, ни духом, как падаль.
Розичка, очнувшись от мрачного раздумья, с отвращением отвела глаза от его растрепанной головы, испачканной засохшей кровью, от бледного, насмешливой гримасой искаженного лица. Но тут рот Яхима приоткрылся, и с губ сорвалась грязная, бесстыдная ругань. Розичка вздрогнула, руки у нее повисли; она снова поглядела на него и долго сидела так, бледная и оцепенелая. В душе ее происходила какая-то борьба, свершалась решительная перемена.
Наконец она встала, подняла свой белый платок, в котором был спрятан молитвенник, и, намочив платок в недалеком источнике, осторожно начала обмывать лицо Яхима. Он пробудился не сразу, но его черты разгладились, утратили неприятное выражение, он перестал судорожно вздыхать, ругаться спросонья и наконец открыл глаза.
Долго и бессмысленно разглядывал он лес вокруг, пока не сообразил, где находится и что за девушка с ним рядом. Яхим с удивлением уставился на нее, быстро огляделся, заметил разорванную куртку, испачканное белье, разбитую скрипку — и покраснел. Затем пробормотал что-то невнятное — дескать, упал, расшибся и потерял сознание.
Розичка не мешала ему говорить, не произнесла в ответ ни слова, лишь помогла ему подняться и выпрямиться. Яхим пожаловался на боль в плече; она внимательно осмотрела плечо — оно действительно сильно опухло. Тогда она перевязала его шелковым шейным платком, затем собрала обломки скрипки, сломанный смычок и заботливо сложила в одну кучку. Потом Розичка опустилась возле парня, взяла за руку и серьезно поглядела ему в глаза.
Яхим умолк. Поведение девушки его поразило. Он не мог понять, что все это значит.
— Дашь ли ты мне прямой ответ на то, о чем я у тебя сейчас спрошу? — молвила она.
— Дам, — ответил Яхим и удивился, что это слово так легко слетело с его губ.
— Я слыхала, у тебя есть девушка; в каких ты с ней отношениях?
— При чем тут, скажи на милость, моя девушка? — еще более изумился Яхим.
— Не спрашивай. Ты обещал, что будешь отвечать прямо.
— Ну, раз уж тебе непременно знать надо, так знай, что нет у меня никакой девушки; если же по-другому считать, то даже не одна, а целая дюжина, коли есть в трактире хорошенькая наливальщица, та и моя.
Розичка умолкла. Он решил, что она не поверила ему.
— Ты мне не веришь? — рассердился он. — Что ж, разве я не такой парень, чтобы нравиться девкам? Посмотрела бы ты на меня приодетого! Да более видного парня во всей округе не сыщешь, любая подтвердит, которая не жеманится.
— Не об этом речь, — вздохнула Розичка. — Не хочу я знать, где и с кем ты обнимаешься и где да кто с тобой лижется; главное — чтобы ты ни одной не обещал жениться.
Яхим засмеялся, но этот смех совершенно не красил его.
— Жениться я обещал уже сто раз, — хохотал он. — Но я всегда выбираю таких пригожих девчонок, которые уже наперед знают, много ли стоят мои обещания. Они мне тоже клянутся, что другого у них нет и не будет. Вот мы и любим друг друга и веселимся, а как надоест — расходимся, словно у нас никогда в жизни ничего общего и не было. А что это ты допытываешься, будто хочешь меня, бедолагу, сама под венец повести?
— Да, хочу повести, — отвечала девушка спокойно и правдиво.
Яхим был поражен. Он посмотрел на девушку: ее прекрасное, спокойное лицо при этих удивительных словах не залилось краской, а ясные глаза она не опустила долу. Она по-прежнему глядела на него открыто и печально.
— Не морочь мне голову! — набросился он на нее.
— Я хочу сделать, как сказала! — подтвердила она еще раз твердо и решительно.
Яхим не спускал с нее глаз, как бы желая заглянуть в самую глубь ее души. Наконец он наклонился к девушке и зашептал дерзко:
— Ах, понимаю, голубка, я тебе нравлюсь, и ты не знаешь, как сделать, чтобы я ходил к тебе на свидания. Потому в обещаешь взять меня в мужья. Только не требуется от тебя такого беспокойства: приду охотно, не запрошу даже половины приданого!
Розичка залилась ярким румянцем.
— Ты еще хуже, Яхим, чем я думала, — ответила она дрожащим от стыда и боли голосом. — Что такое ты обо мне узнал, что дурное услышал, почему разговариваешь со мной, как с какой-нибудь вертихвосткой? Конечно, дело невиданное, чтобы девушка сама делала мужчине предложение, но это еще не значит, что она непорядочная. Другая прямо этого не скажет, а будет завлекать парня льстивыми речами да нарядами, а как увидит, что он и сам ее любит, то станет ломаться и сделает вид, что ей и в голову ничего подобного не приходило. Тешит себя тем, что парень примется за ней в самом деле ухаживать. Я тоже могла бы так пошутить, да стыдно: лгать я не умею, притворство для меня — смерть, иду всегда прямой дорогой…
Яхим слушал вполуха, зато уж тем внимательнее разглядывал он ее. Она была так хороша, произнося эти горячие и взволнованные речи, что он не мог постичь, как это до сих пор он не увидел, что Розичка — красивее всех его возлюбленных, вместе взятых, что вообще ей нет равных в округе.
— Но поверь, что про все про это я и думать не думала, когда входила в эту рощу, — взволнованно продолжала Розичка. — Я, правда, вспоминала о тебе, глядя на вашу скалу и слушая веселый щебет птиц, порхавших вокруг меня. И сейчас вспомнила, как ты подражал птицам, когда мы вместе пасли стадо. А нынче… Ведь с тобой никто не хочет водиться, все тебя ругают и вместо бранного слова говорят: «Ах ты, Скалак!» А мне это горько слушать — ведь я-то знаю, что сердце у тебя все же доброе.
И Розичка расплакалась навзрыд. У Яхима тоже слезы навернулись на глаза — его растрогало, что Розичка так твердо верит в его доброе сердце. Он уж почти забыл, что оно у него вообще есть: ведь ничто не дрогнуло в его душе, когда, вернувшись в свою пещеру несколько недель тому назад, нашел он мать на сырой земле мертвой. Но эти слезы что-то перевернули в нем — так необычно было видеть, что кто-то обращается к нему с доверием и лаской, Яхиму сделалось тоскливо.
— Я не хотела идти в костел, чтобы люди не заметили моего настроения, — снова начала Розичка и смахнула слезу. — Решила побыть здесь, и лесу, в одиночестве. Тут посреди молитвы я и услышала стон, поглядела вокруг и нашла тебя. Ты упал не случайно и лежал не потому, что не мог подняться из-за болезни: ты расшибся в кровь оттого, что пьяный был, а не встал оттого, что не помнил ни себя, ни целого света. Не думай, что я тебя упрекаю, боже сохрани. У каждою свои недостатки, а у меня их, пожалуй, больше, чем у кого другого. Говорю тебе лишь потому, что никогда не испытывала я такой жалости, как в ту минуту, когда вдруг увидела тебя здесь. Вспомню порой, что без родного отца росла — мне тоже становится не по себе; мать захворает — и уже тревожусь, что и она может отправиться вслед за отцом. Но суди меня милостивый бог, эта великая скорбь — ничто в сравнении с тем, что я почувствовала, стоя над тобой. Что станет с этим человеком, если так все пойдет и дальше, подумала я с ужасом, ведь он будет хуже зверя. Чем тут помочь? Был бы у него достаток, не приходилось бы ему таскаться по кабакам, не сидел бы он там от зари до зари, не торчал бы на глазах у доступных девок и не ублажал бы их, чтобы других музыкантов в корчму не пускали. И люди бы иное о нем говорили — ведь лишь за бедность его и упрекают. Что нынче зовут хулиганством, тогда посчитали бы веселым нравом. Ведь я же вижу — маменькины сыночки из усадьбы в Подборах ничуть не лучше, только деньги всё прикрывают, и никто не смеет дурного слова о них молвить. Разве не так?
Яхим до того погрузился в раздумья, что даже ничего ей не ответил.
— Хоть ты и не соглашаешься, я все равно знаю, что это правда. Но как сделать, чтобы ты на чем-то остановился? Вот попалась бы ему девушка из зажиточной семьи, пришло мне в голову, вот если бы она его полюбила! Но, перебрав по памяти всех невест, я не нашла ни одной, что взяла бы мужа только по любви и не думала о богатстве. А если бы и выискалась такая белая ворона, то все равно вряд ли бы посмела: друзья и знакомые осудили бы ее за это. Лишь одна из тысячи смеет делать то, что ей подскажет сердце, не боясь запретов. «Не многим так повезло, как мне, — раздумывала я дальше, — меня никто не смеет принуждать, никто не в силах запретить мне». И тут все сразу встало на свои места. Меня словно озарило: видно, всевышний направил мой шаг к тому месту, где ты лежал, всеми брошенный; знать, хотел он, чтобы я видела тебя во всей нищете и унижении, чтобы я тебя взяла и с тобой свое состояние разделила. Я умыла тебя, чтобы ты проснулся, чтобы можно было спросить, не противна ли я тебе, не посватался ли ты к другой, согласен ли, чтобы мы стали мужем и женою.
Селение Подборы лежит на холмах, над ним теснятся высокие лесистые горы, а внизу тянется веселая зеленая долина — до самой Золотой Горы. Так называется отвесная высокая скала, что возвышается напротив этой деревни: будто чистое золото, сверкает она под лучами яркого солнца.
Влево от скалы среди ольшин и буйных трав раскинулась большая усадьба «На лугах», а прямо над нею стоит запустелая хибарка Скалаков.
Хозяев ее зовут совсем иначе, но как — никто в Подборах, за исключением приходского священника, не знает. Наверное, и сами они этого уже не помнят, — привыкли к тому, что люди кличут их Скалаками, поскольку возле скалы они живут. Это, в сущности, и хорошо, что Скалаки забывчивы, — ведь славная усадебка по соседству, со всем, что к ней относится, принадлежала когда-то их семье. Одну ее половину прокутил и проиграл в карты прадедушка, с другой половиной, по его примеру, точно так же обошелся дедушка, оставив сыну только старую овчарню, из которой тот слепил себе жалкую хату, а нынешний Скалак, видно, о том только и мечтал, чтобы и эта детям целой не досталась.
Пошел он в предков, и лучшего места, чем трактир, для него в целом свете не было. Жена отупела от нужды и детского крика (было у нее этих пострелов десять) и тоже махнула на все рукой. Диво ли, что однажды в доме и затопить стало нечем: ведь идти за дровами в лес на гору— не ахти какое удовольствие.
Скалак не раздумывал долго: не найдя во всем хозяйстве ни ветки, ни прутика, влез на кровлю и вытащил оттуда, что смог. Когда же дранка кончилась, начал ломать стропила; затем дело дошло до чердачной лестницы, потом до крыльца, а когда сошел снег, остались от хибарки лишь четыре стены да хлев.
Только тогда это дошло наконец до его жены, хотя разговорами обычно она ему не слишком докучала.
— Нам чем хорошо? — молвила она ему однажды ночью, в страшный ливень, когда, прокочевав по всей горнице, они не сыскали клочка сухого места. — Вместо одеял у нас облака.
— Молчи, молчи, старуха. — ответил Скалак. — Не успеешь оглянуться, как будешь спать в превеликом и превысоком каменном доме, которому поистине не будет равного во всей Чехии.
— Ладно уж городить-то, — проворчала Скалачиха; она думала, что скорее всего в нем опять говорит хмель. Игрывал он по окрестным корчмам на скрипке и там подчас набирался так, что и света божьего не видел, а заработок его перекочевывал в карман к трактирщику. Удивительная, беспокойная кровь текла в жилах у этих Скалаков; были они, как говорится, на большое копыто кованы, над всеми хотели верх одерживать, всех поучать, словно были все еще хозяевами усадьбы. А у самих сапоги просили каши, и хорошо, если они хоть раз в день наедались похлебки из ржаной муки. Прочим односельчанам это не нравилось, и без надобности с ними дела никто не имел. Они это знали и также старались избегать людей, особенно тех, кто вел тихую, размеренную жизнь, деньгу к деньге складывал, в трактире не показывался, а карты держал для уловления злых духов. Эти люди были Скалакам немым неприятным укором, хотя и куражились они и виду не подавали.
Совсем уже забыла Скалачиха про ночную беседу с мужем, как вдруг однажды он привел на двор каменщика.
— Если вы построите мне, как я вам уже говорил, каменный дом с каменной лестницей на чердак, то я вам за это уступаю вынутые камни, и можете строить из них что хотите. Но, скажу вам, добавлять я ничего не намерен.
Каменщик сначала поломался-поломался, а потом ударил по рукам.
Скалачиха решила, что мужики так только дурачатся, и, даже не дослушав их, пошла по своим делам.
Через день каменщик начал долбить скалу. Ее это не удивило: когда у каменщика была поблизости какая-нибудь работа, он всегда ломал здесь камень, и Скалаку иной раз перепадал от него грош-другой. Ей и в голову не пришло, что он прорубал с одной стороны отверстие величиной с дверь и оконце словно для хлева, а с другой — два окна побольше, вроде как для горницы; потом в той же скале каменщик вырубил ступеньки.
— Дом готов, можете переезжать хоть сегодня; все равно не дождетесь, когда высохнет, — буркнул каменщик, доделав последнюю ступеньку.
— Вот и славно, — обрадовался Скалак, подхватил одной рукой скрипку, а другой — самого младшего из детей, велел жене и остальным ребятишкам собрать одежду и скарб и повел их из хибары по тем каменным ступеням наверх.
Тут только разглядела Скалачиха, что сделал каменщик из песчаника человеческое жилье, и догадалась, что это и есть тот самый большой, высокий каменный дом, который тогда обещал ей муж.
— Ну, что глядишь, как пять крейцаров из кошелька? Чем не замок, которому нет в Чехии равного? — смеялся Скалак, в то время как дети, дивясь каменной скамье, вытесанной вокруг всей стены, раскладывали убогие пожитки.
Скалачиха тоже хотела улыбнуться, да улыбки не получилось — из глаз у нее закапали слезы. Вспомнила она, какую добрую справу дали ей когда-то родители, хоть и были они небогаты. Вспомнила, как сетовали они, когда она ни за кого не хотела идти, кроме Скалака. Твердили ей, что пустит он ее по миру, что человек он недостойный. Благо родители давно умерли: каково бы им было видеть, что у их дочки и крыши-то нет над головой, что должна она лезть, как зверь, в каменную нору.
Скалачиха утерлась дырявым передником, и вспомнилась ей дырявая крыша старою жилья. Перестала она плакать да горевать. В скале над ней хоть не капало. Может, и хорошо, что не забивала она себе голову мрачными мыслями? По крайней мере много слез сберегла.
— Летом здесь будет славный холодок, а зимою тепло, — пообещал ей муж и попал в самую точку. Правда, зимой стены и скамьи блестели, будто их кто серебром оковал, летом же с них все время струйкой стекала вода.
Но Скалачиху и это не расстроило; наоборот, она была довольна. Муж выдолбил для этих скальных ключей желобки. Они стекали в небольшое корыто, и ей не нужно было ходить по воду в долину: вода всегда была под рукой. Правда, была она не слишком прозрачной и свежей, ну да подобные мелочи не беспокоили ни его, ни ее, потому и сносили они разные беды наперекор всему.
Детям, однако, никак не шли на пользу ни та вода, ни то новое каменное жилище. Они бледнели, лица и суставы у них опухали, а на шее появились язвы. В первую зиму смерть прибрала младшего ребенка, в следующую — одного из старших, потом осенью, которая была на редкость сырая и холодная, — двух девочек, двойняшек; так оно и шло по порядку, пока из всех десяти сильных, здоровых детей не остался один-единственный мальчик, Яхим.
Скалак не показывал вида, что тоскует по детям, но где-то внутри у него стало тягостно и холодно. Этот холод и это тягостное чувство он заливал водкой, и водка ему помогала. Но как-то раз холод сковал его так, что он должен был принять внутрь больше обычного. Долго блуждал Скалак в ту ночь, прежде чем нашел скалу. Когда же он наконец счастливо добрался до ступенек, то поскользнулся на влажном камне и разбился, да так ужасно, что пролежал много недель и в конце концов после долгих страданий умер. Соседи толковали, что ничего лучшего он и не заслужил.
— Это несчастное жилье довело до могилы и мужа и ваших детей, — молвил священник, когда после похорон Скалачиха с плачем целовала ему руку за то, что он по мужу бесплатно отслужил молебен, да еще и такое прекрасное погребение ему устроил.
— А если вы не хотите лишиться и Яхима, вам нужно его отдать в люди. Возьму-ка я его сам на некоторое время, мне как раз пастух нужен. Надеюсь, мои работники к нему привыкнут, а он к ним. А то мне всегда было неприятно, что Скалаков род сторонится людей, да и люди его остерегаются. Такой раздор меж соседями мне никогда не был по сердцу.
Скалачиха заплакала снова, на этот раз от радости, что ее дите будет служить в хорошей усадьбе. Придя домой, она связала Яхиму в узел его лохмотья, дала ему изрядного тумака, когда он стал кричать, что служить не будет, и отвела его, хоть он и упирался, в деревню.
Яхим был красивый, черноволосый мальчик, весь в отцовскую родню, несколько бледный, с тонкими, ловкими руками и ногами, с глазами черными как уголь. Лишь одно его безобразило, как полагали деревенские жители, — это брови, которые срослись в одну ровную черную линию. По этим бровям его все узнавали сразу: кроме как у Скалаков, ни в одной семье такой приметы не было.
Увидев, что помощи ждать неоткуда, что мать его обратно не возьмет, он перестал плакать, но много дней подряд от него нельзя было добиться ни слова. Упрямо молчал он в людской и с хозяевами держался замкнуто, недружелюбно. Мальчик прекрасно сознавал, что первым из Скалаков пошел в услужение, и ненавидел тех, кому вынужден был подчиняться.
Когда впервые вместе с другими ребятами Яхим погнал стадо на пастбище, ему пришлось худо. Неприязнь взрослых к Скалакам передалась и детям, поэтому Яхим среди прочих пастухов чувствовал себя отверженным. Каждый, кому не лень, мог его обидеть — ведь это Скалаково отродье! Яхим, однако, скоро все переиначил, действуя, где силой, а где — хитростью.
Мальчишки, которые на пастбище набрасывались на него и колотили, вечером, посланные отцами за табаком или пивом, обязательно попадали в яму, которой прежде никогда на дороге не было и которую, с расквашенными носами и расшибленными лбами, они напрасно искали наутро; а то наступали на стекло и ранили босые ноги. Иногда на голову им сыпался град камней, совершенно непонятно откуда, так что ребятишкам не оставалось ничего другого, как бежать без оглядки; а то вдруг набрасывался на них разъяренный пес и рвал одежду, и так далее. Не нужно было долго ломать голову, кто причина всех этих случайностей; ребята возвращали Яхиму свои кровавые долги, однако каждый раз ненадолго. В конце концов они поняли, что с ним шутки плохи, недаром он Скалак.
Тогда пастушата решили оставить его в покое; но Яхим отнюдь не был удовлетворен. Несправедливая вражда товарищей возбудила в нем жгучую ненависть, и он их с наслаждением изводил, дурачил и мучил до тех пор, пока не добился, чего хотел: все на пастбище подчинялись ему, и он командовал теми, кто когда-то считал его ниже себя.
Отчасти Яхим верховодил по справедливости, поскольку был сильнее и ловчее прочих. Он учил пастухов разводить костер, забираться на деревья, узнавать, где гнездится та, а где иная птица, сколько яичек несет у них самочка и чем они различаются. Никто не умел лучше подражать голосу этих маленьких певцов, никто не умел вырезать такой звонкой свистульки или сделать кнут, который хлопал, словно выстреливали сразу из десяти пушек, и ни у кого не было такого ученого пса, как у него.
Все это принесло ему истинное уважение товарищей, но и немалую зависть; и когда один спрашивал: «Тебе нравится Яхим?», то другой отвечал: «Да что ты, я этого Скалака терпеть не могу!»
— И почему вы его не выносите? — спросила однажды Кучерова Розичка, когда ребята заговорили о нем. — По-моему, он вот ни на столечко не хуже вас.
— Вы посмотрите-ка на эту девчонку! — рассердились ребята. — Еще и указывает! Это тебе даром не пройдет, хоть ты из богатой усадьбы! Помалкивай, не то получишь хорошею пинка!
Розичка была разумная девочка. Она в то время не загадывала наперед, но с этого дня стала приглядываться к Яхиму внимательнее и в глубине души продолжала считать, что ничем он не хуже прочих и не заслуживает такого плохого отношения.
Однажды господа затеяли охоту. Дети пасли стадо неподалеку и с удивлением слушали, как ружейный гром разносится по горам, словно двадцать бурь взревели сразу; считали выстрелы, доносившиеся к ним из затянутой туманом долины. Вдруг что-то затрепыхалось в зарослях, где они всей гурьбой сидели у костра и пекли картошку, и подраненная куропатка влетела Розичке прямо в подол.
Девочка испугалась, но когда увидела, что это просто раненая птица, участливо прижала ее к себе, а затем осторожно укутала в свой передник.
— Ого, славное будет жаркое! — кричали ребята, пытаясь завладеть куропаткой.
— А я ее не отдам, не отдам! — восклицала девочка, полная жалости к несчастной птице.
— А ну, попробуй! — подступали обозленные мальчишки. — Не отдашь по-хорошему, отнимем силой.
— Ни за что не отдам, делайте со мной что хотите, — плакала Розичка и еще крепче прижимала к себе куропатку.
— Не отдашь? А если я тебя вот этой дубиной? — воскликнул Яхим, сверкая глазами. И погрозил ей страшной суковатой палкой.
— Не отдам! — прошептала девочка и зажмурилась, словно ожидая удара. Мальчики захлопали в ладоши, радуясь, что Яхим хорошенько отплатит Розичке за ее упрямство. Но дело повернулось совсем иначе, чем они ожидали. Яхим взглянул на девочку внимательно и удивленно.
— Ну, пускай будет твоя, — пробормотал он затем и опустил глаза, словно сам стыдился своей уступчивости. — А кому не нравится оставаться без жареного, пусть скажет, — добавил он с прежней яростью и покрутил дубиной так, что в воздухе засвистело, — пусть только пожалуется, я ему поднесу другое угощение, хоть и не такое вкусное.
Никто не посмел перечить, и Розичка унесла куропатку домой. Она ее выходила, и забавная птица всюду бегала за ней, как собачонка.
— Вы бы уж молчали, — говаривала Розичка с той поры парням, когда они снова честили Яхима, — ведь у него изо всех вас самое доброе сердце.
Розичка была милая девчушка. Не было в ней ни капли спеси и зазнайства, хотя она хорошо знала, что богаче ее нет невест во всей округе.
Отец ее давно умер, завещав, чтобы все его имущество и усадьба достались Розичке, в случае если его жена выйдет за другого.
Мать Розички была миловидная, моложавая женщина и не видела причин отрекаться от света, поскольку недостатка в охотниках до приданого, которое ей досталось еще из родительского дома, она не ощущала. Не прошло и года, как она вышла замуж и поселилась с новым супругом «На лугах»; люди, правда, поговаривали, что поступила так она не столько из любви к дочке, сколько заботясь о младших детях.
Едва Розичка окончила школу, как женихи к ней повалили гуртом. Тот ее сватал за сына, этот — за дядю, третий — за брата, четвертый — за самого себя. Розичка могла попасть и на мельницу, и в пивоварню, и в дом чиновника, и даже в город, если бы захотела выйти замуж за одного домовладельца, который, ко всему прочему, вел обширную торговлю. Но девушка всякий раз отклоняла предложения, говоря, что еще успеется, что замужество от нее никуда не уйдет, а пока нужно насладиться свободой и молодостью. Стоило на дворе показаться свату, она исчезала и не появлялась до тех пор, пока за сватом не захлопывалась калитка.
Мать и отчим были этому рады. Для них не в пример лучше было бы, если бы девушка и вовсе не вышла замуж и все имущество досталось их детям. Они обхаживали ее и так и этак, желания ее были законом для всех в доме.
Розичка не представляла себе, как это можно, чтобы кто-нибудь взглянул на нее косо. Кто бы ни поглядел, будь то свой, будь чужой, каждый непременно ей улыбался, хоть и не всегда от сердца. Ведь они улыбались будущей владелице усадьбы «На лугах», а там кто знает…
Поскольку Розичка скотину уже не пасла, то Яхима она видела лишь изредка, однако часто вспоминала о нем и о его проделках и думала, какое все же у него доброе сердце, несмотря на все его выходки. Да и он уже не ходил на пастбище со скотиной — стал у священника младшим батраком, но по-прежнему дичился, и все по-прежнему сторонились его, потому как он задирал и встречного и поперечного. И вел он себя так же, как раньше на пастбище — наскакивал на всех, потому что в каждом видел недруга; надо всеми насмехался, чтобы никто первый не поднял на смех его самого. Яхим из кожи вон лез, лишь бы только все забыли, что он Скалак. А одновременно позволял себе дикие выходки, доказывавшие всем, что он точно такой же, как были его деды и прадеды. Словом, ужиться с ним было трудно. Не завелось у него ни единого приятеля, и когда в усадьбе происходила драка, никто не хотел за него заступиться. Он только усмехался, делая вид, словно рад этому, однако Розичке чудилось, что смех этот не от чистого сердца. Боже сохрани, она не обронила ни слова; она и глянуть-то на него не смела, не то чтобы пожалеть.
— Что ты смотришь на меня, будто первый раз видишь? — раскричался он однажды, догадавшись, что она читает в его душе, и ухмыльнулся так зловеще, что она похолодела. «И кто бы подумал, что у него доброе сердце, когда он так ершится?» — подумала Розичка и отошла прочь, не начав задуманного разговора.
Священник (это был, как и водится, достойный человек и истинный пастырь своих прихожан) часто сокрушался, видя, что не может Скалака приучить к людям. Часто убеждал он Яхима, чтобы тот бросил свои дурные замашки: тогда бы люди оценили его ловкость и умение, поняли бы, какой он искусный и проворный парень, — всех богатеньких сынков заткнет за пояс.
— Какой есть, такой есть, — отвечал Яхим с вызовом, — коли бог хотел, чтобы я был другим, другого бы и сотворил.
Когда же священник его от себя не отпустил и вновь попытался воззвать к его совести, Яхим резко ответил, что он не в костеле, чтобы слушать проповеди.
— Да, теперь я вижу, — промолвил огорченный священник, — что из тебя до самой смерти ничего путного не получится. Яблочко от яблони недалеко падает.
Тут Яхим набросился на него с такой яростью, словно хотел задушить; на счастье, старший работник схватил его и увел.
Такой проступок нельзя было обойти молчанием. Яхима вызвали в управу и осудили на трое суток заключения, для острастки.
— По-настоящему, ты заслуживаешь трех лет тюрьмы, — сказал ему начальник, который вел допрос.
— А чего заслуживает тот, кто позорит отца перед сыном? — дерзко спросил его Яхим, и начальник велел поскорее отвести паренька в холодную, чтобы дальнейшими вопросами тот не поставил его в затруднительное положение.
Выйдя из заключения, Яхим остался не у дел. Ни за что на свете он не стал бы просить бывшего хозяина взять его обратно, хотя тот только того и ждал. В других местах на службу его взять не захотели, батраком тоже не брали: ведь он, где бы ни поденничал, везде хотел командовать. Яблочко от яблони недалеко падает. Попалась ему расстроенная отцова скрипка. Умел он на ней, к счастью, сносно пиликать, вот и потянулся от корчмы к корчме, точно так же, как и отец прежде. Что зарабатывал, то уплывало в тот же вечер; что не пропивал, то проигрывал в карты; что не проигрывал, шло веселым девкам на сласти. Передрался он со всеми, кто на него косо глянуть посмел, и воротился в родительскую пещеру, лишь когда платье превратилось в лохмотья, а сам он от ран и синяков не мог уже двигаться.
Повалился он на сырую солому, предоставив матери латать ему одежду, стирать рубашки и перевязывать раны. А чуть встал на ноги, подхватил опять свою скрипку и снова принялся кутить, играть в карты и буянить. Некоторое время спустя пошли слухи, что он таскается по округе с какой-то цыганкой-арфисткой и что она его содержит.
Розичка все это слышала от детворы, и каждая такая весть, как нож, вонзалась ей в сердце. Всяк его корил, всяк хаял. Только она одна знала, что не злой он, и ей было больно, что никто кроме нее этого не понимает; она почти гневалась за это на соседей.
Настал праздник Святого духа. Для горных мест это такая же пора, что для равнины май: леса зеленеют, из-под камней пробиваются цветы, каждый прутик словно обернут лепестками, а по лугам и пройти нельзя — трава поднялась чуть не по пояс, а пестро так, что в глазах рябит.
На первое богослужение Розичка пошла, против своего обыкновения, к ранней обедне, между тем как парни и девушки бывают у поздней. Они приходят в красивых нарядах, сговариваются, где и на каких посиделках встретятся вечером. Но Розичка была набожна; в такой большой праздник хотелось ей помолиться. А для этого гораздо лучше побыть в костеле в ранние часы, когда собираются здесь люди постарше.
Утро выдалось прекрасное. Горы уже сверкали под солнцем, но в долине было еще холодно и сыро, и луговые цветки, обрамлявшие дорогу, склоняли к самой земле свои чашечки, отягченные росой.
Но ярче всех вершин сверкала Скалакова гора. Посмотрев в ту сторону, Розичка вздохнула. В тот же миг чуть ли не из-под ног у нее неожиданно взвился жаворонок, и в голубом небе полилась веселая песня. И от этой песни на глазах у Розички выступили слезы, словно тяжелые капли росы. Вспомнила она Яхима — ведь когда-то на своей свистульке он подражал голосу этой птахи, а нынче какие тоскливые и зазорные песни выводит его скрипка в вонючих, грязных трактирах, и какие, наверное, дурные женщины его тянут за собой и позорят на весь белый свет!
От этих мыслей ей тяжко, будто холодный камень на грудь навалился. И не осталось уже радости от встречи с прекрасным утром, и вот, вместо того чтобы идти к костелу, свернула она на узкую тропку, что вела в рощу, чтобы не встречать знакомых и от посторонних взоров укрыться. Не хотелось ей, заплаканной и грустной, попадаться сейчас на глаза людям. Еще стали бы расспрашивать, что с ней, а этого она сказать не могла. А если бы все узнали, что плачет она из-за того негодяя, от которого последняя девчушка в поместье нос воротит? Наверняка осудили бы за мягкосердечие и слабость.
В роще было еще прекраснее, чем в поле. Солнце касалось лишь самых высоких верхушек деревьев, всюду прохлада, тишина… А запах… Розичка шла все спокойнее и спокойнее, и все меньше хотелось ей снова очутиться между людьми.
«Ах, да ведь повсюду храм божий, — подумала она наконец, — помолюсь-ка я сегодня под этими тенистыми деревьями; эти своды надо мной куда красивее каменных сводов в костеле». Она зашла подальше в глубь просеки, чтобы ей никто не помешал; опустилась на колени под молодым буком. Там, наверху, только что проснулись в гнезде два диких голубя. Они сладко и нежно заворковали, и девичья молитва вознеслась к небу, словно жаворонок со всходов. Вдруг ей послышалось, будто тяжко вздохнул кто-то; она огляделась, но поблизости никого не было. Розичка снова молитвенно сложила руки и обратилась душой к небу, но снова раздался тяжкий, горестный вздох. И опять она никого не увидела. Но молиться больше уже не могла; кто-то и впрямь был неподалеку и очень страдал. Скорее всего, шел человек в костел, по дороге ему сделалось плохо и вот теперь он лежал на земле, не в силах идти дальше. Розичка быстро встала, осмотрелась и увидела: поодаль, в цветущей ежевике, что-то черное шевелится. Она подошла поближе — и правда: лежит в кустах ничком мужчина, одежда на нем рваная, грязная. Нет, про этого не скажешь, что он занемог по дороге в костел! Она уже хотела было повернуться и уйти, но тут увидела раздавленную скрипку…
Стрелой метнулась Розичка к лежавшему — поглядеть ему в лицо. Да, это был Яхим. Но его трудно было узнать: лицо опухло — видно, ушибся, когда падал, — исцарапано, в крови. Верно, возвращался под утро из корчмы, да ноги отказались подчиняться дурной голове; свалился в опьянении, не смог встать и выпутаться из зарослей ежевики — так и уснул под открытым небом.
Розичка обвела взором лес, взглянула на небо и снова посмотрела на парня. Да, он, только он был единственной скверной среди всей этой благодати, он, Яхим!
Все сверкало: цветок — росой, птица — песней, небо — солнцем, лишь он не ведал ни о чем, даже о себе, лишь он не видел и не слышал, лишь он валялся тут, не владея ни телом, ни духом, как падаль.
Розичка, очнувшись от мрачного раздумья, с отвращением отвела глаза от его растрепанной головы, испачканной засохшей кровью, от бледного, насмешливой гримасой искаженного лица. Но тут рот Яхима приоткрылся, и с губ сорвалась грязная, бесстыдная ругань. Розичка вздрогнула, руки у нее повисли; она снова поглядела на него и долго сидела так, бледная и оцепенелая. В душе ее происходила какая-то борьба, свершалась решительная перемена.
Наконец она встала, подняла свой белый платок, в котором был спрятан молитвенник, и, намочив платок в недалеком источнике, осторожно начала обмывать лицо Яхима. Он пробудился не сразу, но его черты разгладились, утратили неприятное выражение, он перестал судорожно вздыхать, ругаться спросонья и наконец открыл глаза.
Долго и бессмысленно разглядывал он лес вокруг, пока не сообразил, где находится и что за девушка с ним рядом. Яхим с удивлением уставился на нее, быстро огляделся, заметил разорванную куртку, испачканное белье, разбитую скрипку — и покраснел. Затем пробормотал что-то невнятное — дескать, упал, расшибся и потерял сознание.
Розичка не мешала ему говорить, не произнесла в ответ ни слова, лишь помогла ему подняться и выпрямиться. Яхим пожаловался на боль в плече; она внимательно осмотрела плечо — оно действительно сильно опухло. Тогда она перевязала его шелковым шейным платком, затем собрала обломки скрипки, сломанный смычок и заботливо сложила в одну кучку. Потом Розичка опустилась возле парня, взяла за руку и серьезно поглядела ему в глаза.
Яхим умолк. Поведение девушки его поразило. Он не мог понять, что все это значит.
— Дашь ли ты мне прямой ответ на то, о чем я у тебя сейчас спрошу? — молвила она.
— Дам, — ответил Яхим и удивился, что это слово так легко слетело с его губ.
— Я слыхала, у тебя есть девушка; в каких ты с ней отношениях?
— При чем тут, скажи на милость, моя девушка? — еще более изумился Яхим.
— Не спрашивай. Ты обещал, что будешь отвечать прямо.
— Ну, раз уж тебе непременно знать надо, так знай, что нет у меня никакой девушки; если же по-другому считать, то даже не одна, а целая дюжина, коли есть в трактире хорошенькая наливальщица, та и моя.
Розичка умолкла. Он решил, что она не поверила ему.
— Ты мне не веришь? — рассердился он. — Что ж, разве я не такой парень, чтобы нравиться девкам? Посмотрела бы ты на меня приодетого! Да более видного парня во всей округе не сыщешь, любая подтвердит, которая не жеманится.
— Не об этом речь, — вздохнула Розичка. — Не хочу я знать, где и с кем ты обнимаешься и где да кто с тобой лижется; главное — чтобы ты ни одной не обещал жениться.
Яхим засмеялся, но этот смех совершенно не красил его.
— Жениться я обещал уже сто раз, — хохотал он. — Но я всегда выбираю таких пригожих девчонок, которые уже наперед знают, много ли стоят мои обещания. Они мне тоже клянутся, что другого у них нет и не будет. Вот мы и любим друг друга и веселимся, а как надоест — расходимся, словно у нас никогда в жизни ничего общего и не было. А что это ты допытываешься, будто хочешь меня, бедолагу, сама под венец повести?
— Да, хочу повести, — отвечала девушка спокойно и правдиво.
Яхим был поражен. Он посмотрел на девушку: ее прекрасное, спокойное лицо при этих удивительных словах не залилось краской, а ясные глаза она не опустила долу. Она по-прежнему глядела на него открыто и печально.
— Не морочь мне голову! — набросился он на нее.
— Я хочу сделать, как сказала! — подтвердила она еще раз твердо и решительно.
Яхим не спускал с нее глаз, как бы желая заглянуть в самую глубь ее души. Наконец он наклонился к девушке и зашептал дерзко:
— Ах, понимаю, голубка, я тебе нравлюсь, и ты не знаешь, как сделать, чтобы я ходил к тебе на свидания. Потому в обещаешь взять меня в мужья. Только не требуется от тебя такого беспокойства: приду охотно, не запрошу даже половины приданого!
Розичка залилась ярким румянцем.
— Ты еще хуже, Яхим, чем я думала, — ответила она дрожащим от стыда и боли голосом. — Что такое ты обо мне узнал, что дурное услышал, почему разговариваешь со мной, как с какой-нибудь вертихвосткой? Конечно, дело невиданное, чтобы девушка сама делала мужчине предложение, но это еще не значит, что она непорядочная. Другая прямо этого не скажет, а будет завлекать парня льстивыми речами да нарядами, а как увидит, что он и сам ее любит, то станет ломаться и сделает вид, что ей и в голову ничего подобного не приходило. Тешит себя тем, что парень примется за ней в самом деле ухаживать. Я тоже могла бы так пошутить, да стыдно: лгать я не умею, притворство для меня — смерть, иду всегда прямой дорогой…
Яхим слушал вполуха, зато уж тем внимательнее разглядывал он ее. Она была так хороша, произнося эти горячие и взволнованные речи, что он не мог постичь, как это до сих пор он не увидел, что Розичка — красивее всех его возлюбленных, вместе взятых, что вообще ей нет равных в округе.
— Но поверь, что про все про это я и думать не думала, когда входила в эту рощу, — взволнованно продолжала Розичка. — Я, правда, вспоминала о тебе, глядя на вашу скалу и слушая веселый щебет птиц, порхавших вокруг меня. И сейчас вспомнила, как ты подражал птицам, когда мы вместе пасли стадо. А нынче… Ведь с тобой никто не хочет водиться, все тебя ругают и вместо бранного слова говорят: «Ах ты, Скалак!» А мне это горько слушать — ведь я-то знаю, что сердце у тебя все же доброе.
И Розичка расплакалась навзрыд. У Яхима тоже слезы навернулись на глаза — его растрогало, что Розичка так твердо верит в его доброе сердце. Он уж почти забыл, что оно у него вообще есть: ведь ничто не дрогнуло в его душе, когда, вернувшись в свою пещеру несколько недель тому назад, нашел он мать на сырой земле мертвой. Но эти слезы что-то перевернули в нем — так необычно было видеть, что кто-то обращается к нему с доверием и лаской, Яхиму сделалось тоскливо.
— Я не хотела идти в костел, чтобы люди не заметили моего настроения, — снова начала Розичка и смахнула слезу. — Решила побыть здесь, и лесу, в одиночестве. Тут посреди молитвы я и услышала стон, поглядела вокруг и нашла тебя. Ты упал не случайно и лежал не потому, что не мог подняться из-за болезни: ты расшибся в кровь оттого, что пьяный был, а не встал оттого, что не помнил ни себя, ни целого света. Не думай, что я тебя упрекаю, боже сохрани. У каждою свои недостатки, а у меня их, пожалуй, больше, чем у кого другого. Говорю тебе лишь потому, что никогда не испытывала я такой жалости, как в ту минуту, когда вдруг увидела тебя здесь. Вспомню порой, что без родного отца росла — мне тоже становится не по себе; мать захворает — и уже тревожусь, что и она может отправиться вслед за отцом. Но суди меня милостивый бог, эта великая скорбь — ничто в сравнении с тем, что я почувствовала, стоя над тобой. Что станет с этим человеком, если так все пойдет и дальше, подумала я с ужасом, ведь он будет хуже зверя. Чем тут помочь? Был бы у него достаток, не приходилось бы ему таскаться по кабакам, не сидел бы он там от зари до зари, не торчал бы на глазах у доступных девок и не ублажал бы их, чтобы других музыкантов в корчму не пускали. И люди бы иное о нем говорили — ведь лишь за бедность его и упрекают. Что нынче зовут хулиганством, тогда посчитали бы веселым нравом. Ведь я же вижу — маменькины сыночки из усадьбы в Подборах ничуть не лучше, только деньги всё прикрывают, и никто не смеет дурного слова о них молвить. Разве не так?
Яхим до того погрузился в раздумья, что даже ничего ей не ответил.
— Хоть ты и не соглашаешься, я все равно знаю, что это правда. Но как сделать, чтобы ты на чем-то остановился? Вот попалась бы ему девушка из зажиточной семьи, пришло мне в голову, вот если бы она его полюбила! Но, перебрав по памяти всех невест, я не нашла ни одной, что взяла бы мужа только по любви и не думала о богатстве. А если бы и выискалась такая белая ворона, то все равно вряд ли бы посмела: друзья и знакомые осудили бы ее за это. Лишь одна из тысячи смеет делать то, что ей подскажет сердце, не боясь запретов. «Не многим так повезло, как мне, — раздумывала я дальше, — меня никто не смеет принуждать, никто не в силах запретить мне». И тут все сразу встало на свои места. Меня словно озарило: видно, всевышний направил мой шаг к тому месту, где ты лежал, всеми брошенный; знать, хотел он, чтобы я видела тебя во всей нищете и унижении, чтобы я тебя взяла и с тобой свое состояние разделила. Я умыла тебя, чтобы ты проснулся, чтобы можно было спросить, не противна ли я тебе, не посватался ли ты к другой, согласен ли, чтобы мы стали мужем и женою.
Яхим хотел было сказать что-нибудь, но растерялся. Впервые в жизни он встретил человека, кто ставил его выше самого себя. Это было для него настолько же ново, насколько и неприятно; он охотно избежал бы этого, а над услышанным посмеялся. Но столь чистосердечное признание подавило в нем все грубые и низкие мысли. Он молча сжал девичью руку, и она ласково ответила на его рукопожатие — оно сказало ей больше, чем любые слова.
— На прошлой неделе мне минуло двадцать, а с двадцати одного года опекун должен считать меня совершеннолетней, — продолжала она после краткой паузы, — тогда я могу делать все, что мне заблагорассудится. Ты сразу же пойдешь в управу и сделаешь оглашение…
— Розичка, — молвил Яхим голосом, глухим от величайшего душевного волнения, — я дурной мужик, лентяй, подлец. Я презирал людей и никогда не думал о боге: если уж он меня забыл, то чего ж о нем беспокоиться! Но теперь — теперь я вижу, что согрешил: не забыл он обо мне, потому как тебя назначил моим ангелом-хранителем; если уж ты не выведешь меня на путь праведный, то подлинно не стою я того, чтобы меня земля носила. Ты веришь в мое доброе сердце — вот увидишь, что не обманулась.
И в пылу восторга Яхим хотел прижать девушку к своей груди.
Она осторожно высвободилась из его объятий.
— Ты мною брезгуешь? Даже поцеловать меня не хочешь, а обещаешь стать моей женой? — спросил он быстро и с подозрением глянул на нее.
— Я это не только обещаю, а присягаю здесь, на моем молитвеннике, и клянусь душой бедного моего отца, что стану твоей. Но целовать тебя не могу, и ты ко мне не придешь, пока я не скажу.
— Да что же это такое? Твердишь, что на других не похожа, а сама намерена меня дразнить да испытывать.
— Нет, я совсем иного хочу, и ты сам это знаешь. Никого на свете я не люблю крепче тебя и с радостью поцеловала бы, как невеста жениха. Но ты сам только, что произнес, будто нужен мне забавы ради, — видно, так приучили тебя женщины… Ты глубоко обидел меня. Обида эта пройдет, забудется, но… сейчас из-за этого между нами не может быть того, что у милого с милой. Я бы со стыда сгорела, если бы ты обнял меня: все бы думала, что считаешь меня беспутной, а я-то шла к тебе с открытым сердцем.
И Розичка не могла сдержать горьких слез.
— Слушай, девка, если не перестанешь реветь, я тут же повешусь на ближайшем дереве! — вне себя закричал Яхим. — Что ты придираешься к словам, словно не знаешь, что я бесстыжий распутник? Но я сам придумал себе наказание — если бы даже ты простила мне охальные речи и сама захотела видеть меня, я все равно не пришел бы. Я в самом деле не покажусь тебе на глаза, пока не прикажешь, но зато ты обо мне услышишь. В тот день, когда пойдешь со мной к алтарю, тебе уже не придется за меня стыдиться, вот увидишь! Постараюсь быть не хуже любого другого; докажу целому свету, что и Скалак может стать человеком, коли захочет.
И Яхим сдержал слово. Пошел в свою нору, умылся и по возможности — приоделся, а после полудня вышел навстречу священнику, когда тот возвращался с вечерней мессы из костела.
— Я оскорбил вас, преподобный отец, — сказал он учтиво, — но сделал то по неразумию, а никак не по злой воле. Вижу теперь, что вы хотели наставить меня на путь истинный, и если бы вы снова мне поверили, то убедились бы, что ваши слова запали мне глубоко в душу и что теперь я буду совсем иным.
Священник горячо ему пожал руку, он и так упрекал себя, что из-за него Яхим опустился, и хотел бы все повернуть на старый лад, если бы только представилась возможность. Поэтому он был доволен, что Яхим первым сделал шаг к примирению и притом так прямодушно. Он и домой его больше не отпустил, а сразу повел с собой в усадьбу.
То-то было пересудов, когда люди снова увидели Яхима в услужении у пастора. А к тому же оказалось, что он не пьет, не лезет в драки и никому не вредит! Многие, правда, осуждали священника за то, что он приваживает к дому отпетого негодяя, и давали почувствовать Яхиму, что он в усадьбе чужой. Однако парень взял себя в руки, хоть не раз скрипел зубами, обидевшись на преднамеренное оскорбление — а оскорбления сыпались на него со всех сторон, — но вида не показывал. Когда же кулак его сжимался для удара, всплывало в его памяти обещание, данное Розичке, и он гнал от себя мстительные желания, стараясь не думать ни о чем, кроме дела.
Зато хозяин не мог им нахвалиться. Коляска его всегда блестела как зеркало, а к лошадям никто, кроме Яхима, близко и подойти не смел: они в ярости вставали на дыбы. Прежде лучший выезд в округе был у пана управляющего, однако теперь ему пришлось быть поскромнее. Он даже сманивал Яхима к себе, обещая службу получше, чем у него теперешняя, но Яхим поблагодарил и предложения не принял. Священник прослышал об этом и еще горячее стал восхвалять верного кучера, всем прочим на зависть.
Однако тот, кто подумал бы, что Яхиму приходилось как-то себя принуждать жить по-новому и прилагать усилия, чтобы не сбиться с пути — тот допустил бы большую ошибку. У него и в самом деле было доброе сердце, что верно в нем распознала и оценила Розичка. Слезы, которые она пролила над Яхимом, будто смыли с его души всю накипь. Зная, что кому-то он доставляет радость, Яхим и сам на себя нарадоваться не мог и много сил прилагал для того, чтобы не было на нем ни пятнышка.
Раздумывая порой о прошлом, юноша не в силах был постичь, как он мог валяться в грязных норах, терпеть глупые шутки девиц и трактирных завсегдатаев, грубую брань кабатчиков, когда он выпивал больше, чем в состоянии был заплатить? Неужто ему нравилось проводить время с теми пустыми дружками, у которых только и разговору, как один другого надул, провел, отдубасил… Часто ему казалось даже, что все это совсем неправда, что он всегда служил здесь, в усадьбе, а все прочее — только дурной сон. Просто он встретился с Розичкой в роще, она к нему отнеслась с любовью и обещала через год за него выйти — лишь это было прекрасной правдой.
Яхим сдержал слово и в том, что к девушке не приближался. Они виделись лишь по воскресеньям, когда она возвращалась из костела и шла мимо липы, где он стоял вместе с другими парнями, принаряженный и вымытый, как они; тут он улыбался ей, а она — ему, и Яхим знал точно, что и для нее год этот так же долог, как для него.
Поля, куда Яхим уходил работать, лежали большей частью на холмах; когда Яхим пахал или боронил, то все поглядывал вниз, «На луга», где вскоре должен был стать хозяином. Однако при этом никакой спеси в нем не было — он осматривал двор, прикидывая, что там надо починить, подправить.
Отчим Розички ничего в хозяйстве не улучшал и заботился лишь о том, чтобы оно приносило больше дохода. Яхим мысленно тут ставил новый забор, там — новый навес, здесь расширял хлев или сносил ненужный сарай; вон тот лужок превращал в поле, а этот угор снабжал водой вот от этого источника, так что получался новый луг. В саду он вырубал старые деревья и на их месте он видел новые саженцы — словом, он уже знал, как все поведет и как устроит, чтобы каждый видел, какой достался Розичке достойный и разумный муж.
Иногда он видел ее, выходящей из дома; тут он бросал кнут и вожжи и глядел как зачарованный. А Розичка косила траву на лугах, поливала цветы, мочила у ручья полотна, созывала кур и сыпала им зерно. Иногда, устав, она останавливалась и глядела на гору; конечно, в эти минуты она думала о нем. И Яхим заливался румянцем, как будто она могла увидеть его оттуда, и с удвоенным усердием снова принимался за работу. И весь день потом на душе у него было торжественно и радостно, как после исповеди.
Как и всему на свете, долгому этому году пришел конец. Снова наступили весенние праздники, снова цвели луга и сады, словно обсыпанные снегом; снова улыбалось солнце с лазурного неба. Но на этот раз улыбались и глаза Розички, когда она бежала рощицей, где год назад нашла Яхима.
Он уже поджидал ее, и ни одна из молодых елей не показалась ей такой же стройной, как его фигура, когда он вдруг выступил из них и оленем бросился ей навстречу.
Сели они на том самом месте, где в прошлом году произошел между ними решительный для их судьбы разговор. И какая удивительная беседа пошла у них в этот раз! То они плакали, то вдруг начинали смеяться, так что диву дались колокольчики да анютины глазки. Они слыхали, будто люди столь мудры, что простой цветок и представить себе того не может, что по мудрости они уступают разве лишь господу богу, а эти вели себя будто неразумные. Уже дикие голуби, чьи сизые перышки блестели на солнце, как серебро, устали ворковать и миловаться в своем гнезде на ветвях бука; ей-богу, всем уже надоедало глядеть на влюбленных, и целый лес шумел им: «Довольно! Хватит с нас вашей любви!» Да какое дело до леса этим людям!
Старые ели позади сердито судачили: дескать, нет конца этим вздохам, шепоткам и поцелуям. Неподалеку от них поднялось много зеленой поросли — берез, сосен, ясеней, грабов. И вдруг они тоже начали друг к дружке наклоняться, льнуть, ветками один другого обвивать — точь-в-точь, как тот парень с девушкой. И кусты тоже посходили с ума: где была на них блестящая почка, та набухала от радостного томления, а где был бутон, то расцветал под поцелуями ласковых солнечных лучей, как лицо Розички. Разве не вправе были хмуриться старые ели? Им ведь доверен дозор за лесными нравами, ибо в лесу тоже должно все придерживаться права и закона — не полагается, чтобы лесные дела шли через пятое на десятое, как случается кое-где у людей.
В понедельник после праздника зашел Яхим в управу к начальнику за бумагой.
Начальник был человек суровый и чванливый; он притеснял и обирал народ, как только мог, зато слыл самым ревностным прихожанином. Был у начальника сын, ни в чем отцу не уступавший. За это ему на танцах Яхим, бывало, не раз пересчитывал ребра. Так что встретили его не слишком приветливо.
— Значит, жениться хочешь! — усмехнулся начальник, когда Яхим изложил свою просьбу. — А на какие шиши, парень? А жить где будешь? Не в своей же пещере! Этого ни за что не потерпит община.
Внутри у Яхима все закипело, однако он укротил свой гнев.
— Иду в зятья, — коротко ответил он.
— Ты — в зятья? — снова принялся куражиться начальник. — Сдается, братец, что либо ты морочишь мне голову, либо кто-то морочит голову тебе. Подумай сам: ну кто захочет тебя принять с пустыми руками, даже если бы за тобой небольшой должок не велся со старых веселых времен. Нет, нет, парень, не найдешь у нас таких дураков, чтобы отдали тебе дочь, кормили вас обоих; ты ведь, женившись, не останешься на службе? Если бы еще ты знал толк в торговом деле либо владел ремеслом. Но ты, как всему селению известно, умеешь только деньгами сорить, да превращать день в ночь, а ночь в день, да всякому сброду помогать в разных проделках и озорстве.
— Что было, не повторится. У многих бывают свои разгульные годы — были они и у меня. Но теперь это все позади. Пан священник подтвердит мои слова; надеюсь, он не откажется засвидетельствовать мое безупречное поведение, если понадобится. А для женитьбы мне не требуется ни ремесла, ни торговли; потому что иду я в усадьбу «На лугах», и Розичка Кучерова станет моей женой.
— Быть этого не может, — взвился начальник, позеленев от злости. — Ты нагло лжешь, подлец!
Яхим страшно побледнел, но снова сдержался.
— Коли не верите мне, спросите у нее самой, — ответил он и вышел, потому что больше не мог за себя ручаться.
Начальник так и остался сидеть, словно его хватил удар. Давно ли Кучерова дочь ответила его сыну, что сапог за ней топчется предостаточно, она же про выданье еще не помышляет. А тут вдруг берет в мужья такого… Начальник не мог даже подыскать для Яхима достаточно оскорбительного прозвища.
Схватив пальто и шляпу, он поспешил вниз, «На луга», чтобы самолично проверить, правду ли сказал парень, или соврал. Однако уже за версту до усадьбы все прояснилось: из дому неслись причитания матери и проклятия отчима; видно было, что весь дом в величайшем смятении.
— Ни за кого идти не хотела и вдруг выбрала этого голяка? — повторяла Розичкина мать. — Знай же, что с этих пор я тебя дочерью не считаю.
— Да опомнитесь, маменька, — убеждала ее Розичка, — ведь того, что я имею, хватит нам на двоих.
— Что, забыла уж, как он таскался с цыганами по свету и с ворами за своего был? Да он не стоит даже того, чтобы на него пса спустить.
— Кто может о нем сказать дурное с тех пор, как он служит у священника?
— Неужели ты не видишь, что он остался там для того лишь, чтобы тебя поймать на удочку? А ты без ума, без разума сама ему лезешь в пасть! Где твой ум и где твоя честь, раз хочешь стать женою человека, которого все бродяги своим дружком считают?
— Вот я и выхожу за Яхима, чтобы никто больше его так не смел звать. Я хочу вытащить его, навсегда избавить от нищеты и позора. И хоть о нем идет худая слава, я считаю, что у него все же доброе сердце.
Таково было Розичкино последнее слово. Матери, отцу и начальнику она предоставила говорить, кричать, грозить чем угодно, а сама стояла на своем.
— Ты еще с ним у алтаря не была, помни это. Если ты упряма, то мы тоже. Хорошо же был бы устроен свет, если бы все вертелось так, как взбредет в голову какой-то девчонке! — Такими словами начальник проводил Розичку.
Дома он написал пану священнику письмо, в котором заявил, что слуге его Яхиму позволить жениться не может, поскольку тот не придерживается добрых нравов и ведет дурную жизнь; что был уже он однажды в заключении за насильственные действия. И дальше начальник перечислил все, что кто-либо говорил про Яхима дурного, правду и клевету — все скопом. А под конец обвинил его в том, что он обманным путем вынудил у неопытной девушки обещание вступить в брак, что родственники ее своего согласия не дают и призывают общину противиться этому союзу, дабы не допустить несчастья их дочери и разорения хозяйства.
Священник еще ничего не знал о намерении Яхима — он только после полудня возвратился с дальней дороги. Он был поражен письмом так же, как прежде начальник — просьбой Яхима, и тоже решил, что здесь какое-то недоразумение, а может, чья-то злая шутка.
— На прошлой неделе мне минуло двадцать, а с двадцати одного года опекун должен считать меня совершеннолетней, — продолжала она после краткой паузы, — тогда я могу делать все, что мне заблагорассудится. Ты сразу же пойдешь в управу и сделаешь оглашение…
— Розичка, — молвил Яхим голосом, глухим от величайшего душевного волнения, — я дурной мужик, лентяй, подлец. Я презирал людей и никогда не думал о боге: если уж он меня забыл, то чего ж о нем беспокоиться! Но теперь — теперь я вижу, что согрешил: не забыл он обо мне, потому как тебя назначил моим ангелом-хранителем; если уж ты не выведешь меня на путь праведный, то подлинно не стою я того, чтобы меня земля носила. Ты веришь в мое доброе сердце — вот увидишь, что не обманулась.
И в пылу восторга Яхим хотел прижать девушку к своей груди.
Она осторожно высвободилась из его объятий.
— Ты мною брезгуешь? Даже поцеловать меня не хочешь, а обещаешь стать моей женой? — спросил он быстро и с подозрением глянул на нее.
— Я это не только обещаю, а присягаю здесь, на моем молитвеннике, и клянусь душой бедного моего отца, что стану твоей. Но целовать тебя не могу, и ты ко мне не придешь, пока я не скажу.
— Да что же это такое? Твердишь, что на других не похожа, а сама намерена меня дразнить да испытывать.
— Нет, я совсем иного хочу, и ты сам это знаешь. Никого на свете я не люблю крепче тебя и с радостью поцеловала бы, как невеста жениха. Но ты сам только, что произнес, будто нужен мне забавы ради, — видно, так приучили тебя женщины… Ты глубоко обидел меня. Обида эта пройдет, забудется, но… сейчас из-за этого между нами не может быть того, что у милого с милой. Я бы со стыда сгорела, если бы ты обнял меня: все бы думала, что считаешь меня беспутной, а я-то шла к тебе с открытым сердцем.
И Розичка не могла сдержать горьких слез.
— Слушай, девка, если не перестанешь реветь, я тут же повешусь на ближайшем дереве! — вне себя закричал Яхим. — Что ты придираешься к словам, словно не знаешь, что я бесстыжий распутник? Но я сам придумал себе наказание — если бы даже ты простила мне охальные речи и сама захотела видеть меня, я все равно не пришел бы. Я в самом деле не покажусь тебе на глаза, пока не прикажешь, но зато ты обо мне услышишь. В тот день, когда пойдешь со мной к алтарю, тебе уже не придется за меня стыдиться, вот увидишь! Постараюсь быть не хуже любого другого; докажу целому свету, что и Скалак может стать человеком, коли захочет.
И Яхим сдержал слово. Пошел в свою нору, умылся и по возможности — приоделся, а после полудня вышел навстречу священнику, когда тот возвращался с вечерней мессы из костела.
— Я оскорбил вас, преподобный отец, — сказал он учтиво, — но сделал то по неразумию, а никак не по злой воле. Вижу теперь, что вы хотели наставить меня на путь истинный, и если бы вы снова мне поверили, то убедились бы, что ваши слова запали мне глубоко в душу и что теперь я буду совсем иным.
Священник горячо ему пожал руку, он и так упрекал себя, что из-за него Яхим опустился, и хотел бы все повернуть на старый лад, если бы только представилась возможность. Поэтому он был доволен, что Яхим первым сделал шаг к примирению и притом так прямодушно. Он и домой его больше не отпустил, а сразу повел с собой в усадьбу.
То-то было пересудов, когда люди снова увидели Яхима в услужении у пастора. А к тому же оказалось, что он не пьет, не лезет в драки и никому не вредит! Многие, правда, осуждали священника за то, что он приваживает к дому отпетого негодяя, и давали почувствовать Яхиму, что он в усадьбе чужой. Однако парень взял себя в руки, хоть не раз скрипел зубами, обидевшись на преднамеренное оскорбление — а оскорбления сыпались на него со всех сторон, — но вида не показывал. Когда же кулак его сжимался для удара, всплывало в его памяти обещание, данное Розичке, и он гнал от себя мстительные желания, стараясь не думать ни о чем, кроме дела.
Зато хозяин не мог им нахвалиться. Коляска его всегда блестела как зеркало, а к лошадям никто, кроме Яхима, близко и подойти не смел: они в ярости вставали на дыбы. Прежде лучший выезд в округе был у пана управляющего, однако теперь ему пришлось быть поскромнее. Он даже сманивал Яхима к себе, обещая службу получше, чем у него теперешняя, но Яхим поблагодарил и предложения не принял. Священник прослышал об этом и еще горячее стал восхвалять верного кучера, всем прочим на зависть.
Однако тот, кто подумал бы, что Яхиму приходилось как-то себя принуждать жить по-новому и прилагать усилия, чтобы не сбиться с пути — тот допустил бы большую ошибку. У него и в самом деле было доброе сердце, что верно в нем распознала и оценила Розичка. Слезы, которые она пролила над Яхимом, будто смыли с его души всю накипь. Зная, что кому-то он доставляет радость, Яхим и сам на себя нарадоваться не мог и много сил прилагал для того, чтобы не было на нем ни пятнышка.
Раздумывая порой о прошлом, юноша не в силах был постичь, как он мог валяться в грязных норах, терпеть глупые шутки девиц и трактирных завсегдатаев, грубую брань кабатчиков, когда он выпивал больше, чем в состоянии был заплатить? Неужто ему нравилось проводить время с теми пустыми дружками, у которых только и разговору, как один другого надул, провел, отдубасил… Часто ему казалось даже, что все это совсем неправда, что он всегда служил здесь, в усадьбе, а все прочее — только дурной сон. Просто он встретился с Розичкой в роще, она к нему отнеслась с любовью и обещала через год за него выйти — лишь это было прекрасной правдой.
Яхим сдержал слово и в том, что к девушке не приближался. Они виделись лишь по воскресеньям, когда она возвращалась из костела и шла мимо липы, где он стоял вместе с другими парнями, принаряженный и вымытый, как они; тут он улыбался ей, а она — ему, и Яхим знал точно, что и для нее год этот так же долог, как для него.
Поля, куда Яхим уходил работать, лежали большей частью на холмах; когда Яхим пахал или боронил, то все поглядывал вниз, «На луга», где вскоре должен был стать хозяином. Однако при этом никакой спеси в нем не было — он осматривал двор, прикидывая, что там надо починить, подправить.
Отчим Розички ничего в хозяйстве не улучшал и заботился лишь о том, чтобы оно приносило больше дохода. Яхим мысленно тут ставил новый забор, там — новый навес, здесь расширял хлев или сносил ненужный сарай; вон тот лужок превращал в поле, а этот угор снабжал водой вот от этого источника, так что получался новый луг. В саду он вырубал старые деревья и на их месте он видел новые саженцы — словом, он уже знал, как все поведет и как устроит, чтобы каждый видел, какой достался Розичке достойный и разумный муж.
Иногда он видел ее, выходящей из дома; тут он бросал кнут и вожжи и глядел как зачарованный. А Розичка косила траву на лугах, поливала цветы, мочила у ручья полотна, созывала кур и сыпала им зерно. Иногда, устав, она останавливалась и глядела на гору; конечно, в эти минуты она думала о нем. И Яхим заливался румянцем, как будто она могла увидеть его оттуда, и с удвоенным усердием снова принимался за работу. И весь день потом на душе у него было торжественно и радостно, как после исповеди.
Как и всему на свете, долгому этому году пришел конец. Снова наступили весенние праздники, снова цвели луга и сады, словно обсыпанные снегом; снова улыбалось солнце с лазурного неба. Но на этот раз улыбались и глаза Розички, когда она бежала рощицей, где год назад нашла Яхима.
Он уже поджидал ее, и ни одна из молодых елей не показалась ей такой же стройной, как его фигура, когда он вдруг выступил из них и оленем бросился ей навстречу.
Сели они на том самом месте, где в прошлом году произошел между ними решительный для их судьбы разговор. И какая удивительная беседа пошла у них в этот раз! То они плакали, то вдруг начинали смеяться, так что диву дались колокольчики да анютины глазки. Они слыхали, будто люди столь мудры, что простой цветок и представить себе того не может, что по мудрости они уступают разве лишь господу богу, а эти вели себя будто неразумные. Уже дикие голуби, чьи сизые перышки блестели на солнце, как серебро, устали ворковать и миловаться в своем гнезде на ветвях бука; ей-богу, всем уже надоедало глядеть на влюбленных, и целый лес шумел им: «Довольно! Хватит с нас вашей любви!» Да какое дело до леса этим людям!
Старые ели позади сердито судачили: дескать, нет конца этим вздохам, шепоткам и поцелуям. Неподалеку от них поднялось много зеленой поросли — берез, сосен, ясеней, грабов. И вдруг они тоже начали друг к дружке наклоняться, льнуть, ветками один другого обвивать — точь-в-точь, как тот парень с девушкой. И кусты тоже посходили с ума: где была на них блестящая почка, та набухала от радостного томления, а где был бутон, то расцветал под поцелуями ласковых солнечных лучей, как лицо Розички. Разве не вправе были хмуриться старые ели? Им ведь доверен дозор за лесными нравами, ибо в лесу тоже должно все придерживаться права и закона — не полагается, чтобы лесные дела шли через пятое на десятое, как случается кое-где у людей.
В понедельник после праздника зашел Яхим в управу к начальнику за бумагой.
Начальник был человек суровый и чванливый; он притеснял и обирал народ, как только мог, зато слыл самым ревностным прихожанином. Был у начальника сын, ни в чем отцу не уступавший. За это ему на танцах Яхим, бывало, не раз пересчитывал ребра. Так что встретили его не слишком приветливо.
— Значит, жениться хочешь! — усмехнулся начальник, когда Яхим изложил свою просьбу. — А на какие шиши, парень? А жить где будешь? Не в своей же пещере! Этого ни за что не потерпит община.
Внутри у Яхима все закипело, однако он укротил свой гнев.
— Иду в зятья, — коротко ответил он.
— Ты — в зятья? — снова принялся куражиться начальник. — Сдается, братец, что либо ты морочишь мне голову, либо кто-то морочит голову тебе. Подумай сам: ну кто захочет тебя принять с пустыми руками, даже если бы за тобой небольшой должок не велся со старых веселых времен. Нет, нет, парень, не найдешь у нас таких дураков, чтобы отдали тебе дочь, кормили вас обоих; ты ведь, женившись, не останешься на службе? Если бы еще ты знал толк в торговом деле либо владел ремеслом. Но ты, как всему селению известно, умеешь только деньгами сорить, да превращать день в ночь, а ночь в день, да всякому сброду помогать в разных проделках и озорстве.
— Что было, не повторится. У многих бывают свои разгульные годы — были они и у меня. Но теперь это все позади. Пан священник подтвердит мои слова; надеюсь, он не откажется засвидетельствовать мое безупречное поведение, если понадобится. А для женитьбы мне не требуется ни ремесла, ни торговли; потому что иду я в усадьбу «На лугах», и Розичка Кучерова станет моей женой.
— Быть этого не может, — взвился начальник, позеленев от злости. — Ты нагло лжешь, подлец!
Яхим страшно побледнел, но снова сдержался.
— Коли не верите мне, спросите у нее самой, — ответил он и вышел, потому что больше не мог за себя ручаться.
Начальник так и остался сидеть, словно его хватил удар. Давно ли Кучерова дочь ответила его сыну, что сапог за ней топчется предостаточно, она же про выданье еще не помышляет. А тут вдруг берет в мужья такого… Начальник не мог даже подыскать для Яхима достаточно оскорбительного прозвища.
Схватив пальто и шляпу, он поспешил вниз, «На луга», чтобы самолично проверить, правду ли сказал парень, или соврал. Однако уже за версту до усадьбы все прояснилось: из дому неслись причитания матери и проклятия отчима; видно было, что весь дом в величайшем смятении.
— Ни за кого идти не хотела и вдруг выбрала этого голяка? — повторяла Розичкина мать. — Знай же, что с этих пор я тебя дочерью не считаю.
— Да опомнитесь, маменька, — убеждала ее Розичка, — ведь того, что я имею, хватит нам на двоих.
— Что, забыла уж, как он таскался с цыганами по свету и с ворами за своего был? Да он не стоит даже того, чтобы на него пса спустить.
— Кто может о нем сказать дурное с тех пор, как он служит у священника?
— Неужели ты не видишь, что он остался там для того лишь, чтобы тебя поймать на удочку? А ты без ума, без разума сама ему лезешь в пасть! Где твой ум и где твоя честь, раз хочешь стать женою человека, которого все бродяги своим дружком считают?
— Вот я и выхожу за Яхима, чтобы никто больше его так не смел звать. Я хочу вытащить его, навсегда избавить от нищеты и позора. И хоть о нем идет худая слава, я считаю, что у него все же доброе сердце.
Таково было Розичкино последнее слово. Матери, отцу и начальнику она предоставила говорить, кричать, грозить чем угодно, а сама стояла на своем.
— Ты еще с ним у алтаря не была, помни это. Если ты упряма, то мы тоже. Хорошо же был бы устроен свет, если бы все вертелось так, как взбредет в голову какой-то девчонке! — Такими словами начальник проводил Розичку.
Дома он написал пану священнику письмо, в котором заявил, что слуге его Яхиму позволить жениться не может, поскольку тот не придерживается добрых нравов и ведет дурную жизнь; что был уже он однажды в заключении за насильственные действия. И дальше начальник перечислил все, что кто-либо говорил про Яхима дурного, правду и клевету — все скопом. А под конец обвинил его в том, что он обманным путем вынудил у неопытной девушки обещание вступить в брак, что родственники ее своего согласия не дают и призывают общину противиться этому союзу, дабы не допустить несчастья их дочери и разорения хозяйства.
Священник еще ничего не знал о намерении Яхима — он только после полудня возвратился с дальней дороги. Он был поражен письмом так же, как прежде начальник — просьбой Яхима, и тоже решил, что здесь какое-то недоразумение, а может, чья-то злая шутка.
Он пригласил Яхима и прочел ему полученное письмо.
Однако Яхим от этого письма пришел в такое бешенство, что священника охватил ужас. Глаза у Яхима остановились, а на губах выступила кровавая пена; он бился об стену, словно потерял рассудок, и рычал, как зверь:
— Разве вы люди! Сперва обвиняете меня во всех смертных грехах, руки воздеваете к небу, а когда я хочу обратиться на путь истинный, тут вы становитесь мне поперек дороги и кричите: мы не желаем, чтобы ты жил среди нас, оставайся там, где был. Все равно тебе ничего не поможет, даже если ворвешься в наш круг — в наших глазах ты до смерти останешься ничтожеством, будь ты само совершенство!
Дурная кровь Скалаков вскипела в парне так, как не бывало раньше: слугам пришлось держать его, чтобы не побежал он к начальнику мстить за оскорбление.
Никак не удавалось утихомирить Яхима: он никого не подпускал к себе, кусал руки тем, кто его держал. Оставалось только приказать батракам, чтобы те заперли его в кладовку и глаз с него не спускали, дабы не сотворил он худа себе или другим; сам же хозяин отправился «На луга» лично убедиться, как обстоит дело.
Далеко идти ему не пришлось: едва он спустился в долину, как повстречал Розичку. Угроза начальника не прошла мимо ее ушей; она знала, что тот вполне может ее осуществить, и опасалась, как бы он не вывел Яхима из себя. Она бросилась прямо к священнику, в надежде умолить преподобного отца быть их заступником перед родичами и общиной.
— Скажи мне только, почему именно Яхима ты выбрала и полюбила? — строго допытывался священник. Розичка была его лучшей, самой прилежной ученицей и любимицей. Он всегда ставил ее в пример. — Неужто ты так же, как все прочие женщины, не видишь в мужчине ничего, кроме смазливой физиономии? А я-то надеялся, что ты сделаешь разумный выбор. Начальник прав: Яхим — один из самых последних людей в нашей округе.
— И вы о том же, преподобный отец! А ведь учите нас, что перед богом все равны, и бедные и богатые, — промолвила Розичка с горестным удивлением. — А я-то думала, что хоть вы признаете, что Яхим теперь совсем другой, порядочный и трудолюбивый.
— Это правда, — успокоил священник плачущую девушку, — я это признаю, и даже больше того, верю, чему прочие верить опасаются: что перемены в нем глубокие. Но от прежнего распутства лежит на нем безобразное пятно, которое так быстро не смоешь. Ибо свет, дорогое дитя, не прощает, и если человек согрешит против его законов, то не дарует свою милость раскаявшемуся, в отличие от господа всемогущего!
— Но ведь остальным до него нет никакого дела. Если меня не тревожит его прошлое, то чего же другим беспокоиться!
— Нельзя так судить, дочь моя. Бог тебя оделил щедрее, чем кого бы то ни было из твоих сестер и братьев. От этого и рождается в них невольная горечь, а ее ты можешь умерить, лишь разумно и по совести распорядившись своим достоянием. Ты же хочешь его разделить с человеком, который слывет распутником и мотом. Конечно, теперь он несколько изменился, но год — слишком краткий срок, а проделки его слишком бросались в глаза, чтобы о них скоро забыли. Поистине, никто не одобряет твоего выбора, и я уверен, что наши соседи приложат все усилия, чтобы ты оставила Яхима и выбрала в женихи человека надежного, безупречного, короче — более себе равного.
Розичка присела на межу, и задумчивый взор ее устремился в небо, где заблестели первые звезды. Священник не мешал ее спокойному раздумью, полагая, что оно способствует благоприятному решению.
— Значит, — начала она серьезно, — свет хочет, чтобы равное тянулось к равному, богатый — к богатой, бедный — к бедной, праведный — к праведной, а бесчестный — к негоднице. Конечно, я всего лишь неопытная, простая девушка, и не мне бы судить о вещах столь возвышенных и важных. Но ведь вы сами нас учили, преподобный отец, что бог является мудрому так же, как и нищему духом, ибо познается он сердцем, а вовсе не ученостью. А мое сердце подсказывает мне, что не может такое правило быть согласным с господней волей, иначе лгало бы писание. Ибо из него мы узнаем, что богач жестокосердный не узрит царствия небесного, а раскаявшийся грешник богу дороже девяти-десяти праведников. Господь воистину хочет, чтобы богач разделил достаток свой с бедным, чтобы сильный был помощником слабому, а добрый, праведный, благородный человек склонился к заблудшему, и имел терпение, и говорил ему слова ласковые, которые тронули бы его и смягчили. Сдается мне, что если бы все так поступали, исчезли бы бедность, зломыслие, грех. А что касается домыслов, будто Яхим не переменился, а лишь прикидывается, чтобы обмануть меня, то это большая ошибка. Ровно год назад я сама дала ему слово, и еще при каких обстоятельствах! Он после попойки валялся в лесу, на голой земле. Он знал, что я слово сдержу, независимо от того, переменится он или нет, и ему не было нужды ломаться и переделываться ради меня. Точно так же ошибаются и те, кто полагает, что он меня обольстил хитрыми речами. Я ему предложила сама, сердце мое разрывалось, видя его унижение, и я знала, что все-таки он добрый человек. Яхим знал, что я его люблю, и, однако, за мной не увивался, потому что я того не хотела, и за весь этот год в первый раз я с ним разговаривала в прошедший праздник. Тогда и сказала, чтобы он попросил разрешения на брак и договорился об оглашении. Я хотела бы поглядеть на того, кто бы все это вот так достоверно знал и все же твердил, что Яхим ничего не стоит!
На этот раз задумался священник.
— Если все так, как ты говоришь, то я и сам удивляюсь. Я не поверил бы, что ему до такой степени удастся перемениться. Однако, девушка, замысел твой все равно очень рискован. Яхим воспитанием обойден, он человек пылкой крови, необузданных страстей. Перепугал он меня нынче. Если бы ты его видела, когда я читал ему письмо начальника, в котором тот отказывает в его просьбе…
В это время наверху в деревне послышались вопли, крики о помощи, плач.
Священник был поражен, так же как и Розичка: у обоих мелькнула одна и та же мысль — не вызван ли этот шум какой-нибудь выходкой Яхима?
Они молча встали и без дальних слов поспешили в деревню. Вдруг навстречу им выскочил всадник; при бледном свете звезд они узнали слугу начальника, мчавшегося во весь опор на неоседланном коне.
— Куда ты так поздно? — окликнул его священник.
— В город за доктором. Скалак добрался до нашего хозяина и ударил его ножом в грудь так, что он в тот же миг свалился. Еще дышит, но доктора дождется едва ли, — прозвучал страшный ответ.
Розичка вскрикнула и потеряла сознание. Конь вздыбился и перемахнул через распростертое на земле тело.
Когда Розичка очнулась, она увидела, что лежит в своей пригожей, чистой горенке и солнце весело заглядывает в оконце, затененное диким виноградом. Кругом было тихо, лишь со двора доносилось кудахтанье и веселое кукареканье. Розичка улыбнулась: всех чаще и голосистее кукарекал пестрый петух — девушка различила его голос среди птичьего гомона.
Потом ей пришло в голову, что, видимо, день наступил давно, раз в доме так тихо: наверное, все работники уже на полях, а она проспала.
Она быстро поднялась, но тут же снова упала на постель.
Только теперь она почувствовала слабость и боль в теле и заметила, что голова ее обернута мокрым платком, а руки забинтованы окровавленными повязками. Розичка удивленно огляделась. На столе стояло множество пузырьков с каплями и микстурами. Она поняла, что долго и тяжело болела и что ей отворяли кровь. Она хотела позвать кого-нибудь, но у нее не хватило на это сил, и она снова потеряла сознание.
После того вечера на дороге у Розички началась горячка, и много дней ее жизнь висела на волоске. Не одна неделя прошла, прежде чем она дозналась, что начальник действительно умер вследствие ранения, нанесенного ему Яхимом, что Яхима увезли в кандалах, что суд над ним уже состоялся и что по великой милости, учитывая, что кровавое преступление совершено в невменяемом состоянии, он осужден лишь на десять лет строгого тюремного заключения.
Поступок Яхима взбудоражил всю округу; имя девушки было у всех на устах.
Близкие от нее отреклись из-за того, что она любовью к распутнику и убийце навлекла такой позор на свой род. Еще во время ее болезни родичи съехали с ее двора. Сказавши, чтобы ни к ним, ни к сестрам, ни к братьям она не смела обращаться, они оставили ее на попечение служанки.
Розичка выслушала это жестокое решение, и ни один мускул на лице у нее не дрогнул.
В голове девушки билась только одна мысль: как можно скорее выздороветь, набраться сил и ехать к Яхиму в Прагу.
Когда же родные увидели, что она не думает вовсе просить у них прощения, и пронюхали о ее намерении ехать за Яхимом, тогда дошло до их сознания, что усадьба «На лугах» — лакомый кусок и что с его владелицей не следовало бы обращаться так бессердечно. Стали подсылать к ней потихоньку разных посредников, чтобы те дали ей понять, что семья смилостивится, если она порвет всякую связь с убийцей. Но Розичка отвечала каждому, что скорее пожертвует спасением души, чем откажется от Яхима, — тем более теперь, когда он несчастен. Оскорбленная родня окончательно исторгла ее из своей среды и уж больше не желала о ней знать ничего.
Наконец Розичка смогла подняться на ноги. Она собрала все наличные деньги. Их было мало, так как отчим оставил лишь самое необходимое. Тогда она продала несколько голов отборного скота и отправилась в Прагу.
Она молила так горячо и расплачивалась так щедро, что в конце концов ей разрешили свидание с Яхимом. С раскрытыми объятиями она бросилась ему навстречу. Но каким страшным он предстал перед ней в своей серой куртке! Она оцепенела, увидев кандалы на его руках и ногах, ужаснулась его дикого взгляда. На нее глядел не Яхим, жених ее, а прежний, злобный Скалак, якшавшийся с бродягами.
— Понадобилось тебе брать меня в мужья! — язвительно обронил он в ответ на ее горючие слезы. — Не будь тебя, сдох бы в какой-нибудь канаве и ничего этого не видел. Из-за тебя мне каждую ночь снится окровавленный человек. Эх вы, бабы! Где бессилен дьявол, туда он вас посылает.
Розичка упала на колени и протянула к нему руки. В мозг ее словно впились раскаленные железные когти, а в глазах отразилось такое безумное отчаяние, что даже суровый Яхим смягчился. Он обнял девушку, и оба заплакали.
Старухой возвратилась Розичка домой. Огненными знаками отпечатались в ее мозгу жестокие слова Яхима — ни днем, ни ночью не шли они у нее из памяти. «Из-за тебя мне каждую ночь снится окровавленный человек!» — непрестанно звучало в душе, и куда бы она ни поглядела, всюду мерещился ей тот же грозный призрак, а рядом с ним — закованный в кандалы Скалак, проклинающий тот день и час, когда он повстречался с ней.
Она ни на что не обращала внимания, предоставив дела их собственному течению. Заломив руки, бродила одна по двору, где так часто видел ее Яхим, издали любуясь ею, занятой хозяйственными заботами, и думая при этом, каким несравненным мужем и хозяином станет в один прекрасный день.
«Боже мой, боже мой! Куда девалась твоя доброта, — роптала она, — если ты допустил все это? Не будь меня, не сидел бы он в тюрьме и, может, был бы счастлив. Надо же мне было предложить ему стать моим мужем!»
И Розичка искала облегчения в молитве. Но каждый раз, когда она показывалась наверху, в Подборах, дети хватали камни и швыряли в нее.
— Вот идет проклятая Скалакова невеста! — кричали они ей вслед чуть ли не до самого костела, и ей приходилось ускорять шаг; у часовни она не осмеливалась даже преклонить колена, словно и к ее рукам пристала кровь, пролитая Яхимом в пылу гнева.
Усадьба скоро пришла в запустение. Работники сами хозяйничали в усадьбе и тащили, что под руку попадет. Розичка ничего не подновляла и не поправляла. Риги протекали, половицы в хлевах сгнили, так что скотина могла сломать ногу, провалившись в дыры; ленивые батраки выкорчевывали в саду лучшие плодовые деревья, чтобы не ездить в лес за дровами; на полях выполнялись лишь самые необходимые работы. Даже семена не собирали: коровы отощали и от бескормицы молока не давали вовсе. Словом, каждый, кто шел мимо усадьбы, мог только всплеснуть руками, видя во всех этих признаках нерадивости и беспорядка божье наказание Розичке за то, что она все еще не забыла «убивца».
Лишь два раза в год разрешали Розичке свидание с Яхимом. Она трепетала перед каждой встречей, ибо он всегда встречал ее упреками. Но все равно ездила в Прагу при первой возможности, надеясь потихоньку проникнуть в тюрьму. Она считала своим скорбным долгом выслушивать его горькие упреки, полагая, что после таких вспышек ему делается легче, и что, видя в ней причину совершенного злодеяния, он перестает чувствовать себя преступником.
Когда ей не удавалось попасть внутрь, она ходила вокруг тюрьмы, гадая, за которым из этих зарешеченных окошек заперт теперь Яхим, и заводила разговоры со стражниками, которые ее уже хорошо знали и пользовались ее положением: выдумывали кто во что горазд и каждый уверял, что оказывает Яхиму некие важные услуги. И Розичка благодарила их «языцем сребреным», побуждая их щедрыми дарами к новым послаблениям несчастному узнику. Она и не догадывалась, что является предметом насмешек этих бессовестных людей и что Яхиму от их посулов ничуть не становится легче.
А Яхим хотел только денег и денег, и его нездоровое, опухшее лицо яснее ясного говорило, для какой цели.
— Когда я лежу в беспамятстве, тогда только меня и отпускает, — ответил он ей, когда она попросила его быть воздержанней. — Хоть тут я забываю того, кого убил из-за тебя: ты меня попутала!
Он уже знал, как легче всего заставить ее замолчать.
После уплаты налогов Розичка обнаружила, что усадьба уже почти не дает никакого дохода. Собранного урожая едва хватало, чтобы прокормить работников, а ведь им надо было еще и платить. И деньги уплывали. Мало того, что в Праге ей приходилось чуть ли не каждому, кто попадался на глаза, совать в руку. И к ней, «На луга», приходили разные люди, отбывшие срок наказания, перед которыми Яхим хвастался своей щедрой, богатой невестой: она, мол, его так любит, что продаст последнюю перину и будет спать на голых камнях, лишь бы ему угодить.
Все эти люди похвалялись особенною дружбой с Яхимом и приходили по его поручению. Были это поджигатели, убийцы и мошенники. Стоило Розичке заглянуть им в глаза, как мороз подирал по коже. Ужас охватывал девушку, когда они называли Яхима своим дружком. Она отдавала им все, что имела, лишь бы избавиться от них. Они же, закоснелые в пороке, смеялись в душе над ее испугом и не шли со двора, не получив требуемого.
Розичка старалась удовлетворять все их просьбы; в конце концов пришлось залезть в долги. Соседи не пожелали ссудить ей ни гроша; тогда она обратилась к ростовщику. Тот знал про упадок Розичкиного хозяйства и предвидел, как и все, ее близкое разорение. Ссуду он дал, но под огромные проценты. Она подписала все, не обсуждая условий. Лишь после этого он принес ей несколько золотых, с которыми она могла поехать к Яхиму.
Так прошли эти десять лет, и вот однажды Розичка возвратилась из Праги, ведя с собою седого, сгорбленного, хромого старика. Никто, даже собственная мать, не узнала бы в нем некогда красивого юношу.
Был он болен и немощен. Розичка поселила его в усадьбе, чтобы легче ухаживать за ним; однако уже на следующий день пришел жандарм и заявил, что он не потерпит в общине такой безнравственности, чтобы неженатый мужчина жил у девушки, и что ему поручено отвести Яхима в его пещеру.
— Ведь мы уже просили о разрешении на свадьбу, — защищалась Розичка, заливаясь слезами, когда больного вытаскивали из постели, чтобы на телеге увезти в его жилище.
Жандарм поднял ее на смех и сказал, что все это был напрасный труд, так как преступник вроде Яхима, никогда не получит разрешения на брак, особенно если он перед этим вел такую распутную жизнь. Затем он сел в телегу рядом с Яхимом, велел кучеру погонять и отвез несчастного в его сырую каменную нору, где не было не то что матраса, но даже охапки соломы. Там он оставил Яхима и уехал, довольный тем, что исполнил свой долг.
Розичка тотчас же послала работника к Яхиму и снабдила его всем, чем могла. Но так продолжалось недолго. Однажды пришла от начальника бумага, где сообщалось о том, что усадьба ее будет продана с молотка, если владелица не заплатит долга. Лишь теперь она поняла, что даже дранка на кровле — и та уже не принадлежит ей. Усадьбу оценили, назначили торг, и как-то вечером Розичка очутилась под голым небом в одном поношенном платьишке, не ведая, где нынешней ночью приклонит голову.
Розичка не плакала, не сетовала. Присела у дороги над ручьем под старой вербой и хотела поразмыслить, как быть. Но мысли не слушались ее: как когда-то несчастная Скалачиха, она отвыкла думать. Она могла только чувствовать — и то не свою беду, а Яхима. Она точно могла определить, когда он страдает от холода, когда — от голода, и тихо мучилась вместе с ним.
Она и сегодня не в состоянии была думать о своей судьбе. Сидела и смотрела на скалу, маячившую перед нею. Солнце только что скрылось, но скала еще сверкала в блеске его последних лучей. Точно так она сверкала и раньше, когда Яхим указывал на нее и говорил пастухам: «Ни у кого из вас нет такого большого и красивого дома, как у меня: видите, ваши дома деревянные, а мой построен из чистого золота!»
Дети знали, что это неправда и злились, что этот Скалак еще и хвастается; лишь она не возмущалась и радовалась, что у Скалака и вправду самый высокий и самый прекрасный дом.
Она оглянулась. Кто-то остановился рядом и довольно долго глядел на нее, не замеченный ею.
Это был Яхим со своей старой, склеенной скрипкой. Он возвращался домой. С той поры как Розичка больше ничего ему не присылала, он стал ходить на большак и там пиликал. Люди, не знавшие его, глядя на седую голову и больные, опухшие ноги, думали, что это старик, измученный трудом и нуждой, и иногда бросали ему грошик в дырявую шапку.
— Что ты сидишь тут? — спросил он ее, однако не так грубо, как обычно.
— Новый хозяин уже перебрался в усадьбу, а больше идти мне некуда, — отвечала она спокойно и без горечи.
— Что ж ты не идешь в пещеру? Или для тебя там слишком грязно?
— Ты знаешь, что нет, мне скала всегда была по сердцу — ведь ты в ней вырос; но я боюсь жандарма. Как узнает, что я у тебя, сразу явится за мной. Но одному богу известно, куда он меня отведет — ведь у меня нет дома! — и Розичка почти улыбнулась, представляя себе, как будет растерян стражник.
— Пошли уж, — сказал Яхим резко. — Не бойся, на этот раз он тебя оставит в покое.
Так Розичка пошла в Скалакову нору. Было там темно и сыро, как в могиле. Яхим зажег лучину, уселся против нее на заплесневелое каменное сиденье и стал опять так же пристально на нее глядеть, как и тогда, когда нашел ее в долине у ручья под вербой.
— Видишь, девка, до чего ты докатилась? — молвил он с усмешкой. — А все оттого, что меня захотела в мужья взять! Ты только глянь в окно, «На луга», на эту славную усадьбу и пастбища. Да из этой усадьбы три можно сделать! Могла бы в ней сидеть, как графиня, выезжать четвериком, люди бы тебе ручки целовали. Что ж не взяли тебя замуж господа служащие и не сделали благородной дамой?! Бот ты возмечтала меня из болота вытянуть, а выходит, я тебя затащил в эту дыру. Кто ты теперь? Бродяжка, нищенка; пес от тебя куска хлеба не примет. Ну, кто мог подумать, что ты будешь рада голову приклонить в этой берлоге, что будешь счастлива, если тебя здесь до самой смерти оставят в покое? Эх, вы, бабы, уж не мешали бы богу в его заботах! Он-то знает, кому должно солнце светить, а на кого послать град. Вот и сиди теперь! На людей не жалуйся: они тебя упреждали достаточно, от каждого могла слышать, что Скалаку цена грош!
Розичка чувствовала глубокую горечь в этой насмешке. Она повернулась к нему, стряхнула отупение, и глаза ее остановились на нем во всем блеске любви и сострадания.
— Слушай, Яхим, — молвила она, — это великое слово, но ты мне, конечно, поверишь, так как убедился, что я не лгу. Если бы я знала, что станет со мной, все равно не поступила бы иначе. Ты был достоин того, чтобы для тебя всем пожертвовать. Мои намерения были добрыми — кто виноват, что все обернулось к худшему? Я к тебе относилась честно… Твоя мать — и та не сделала для тебя столько добра.
— Знаю, знаю, — засмеялся он снова. — И чтобы ты помнила о моей благодарности, я тебе нынче отказываю этот дворец. Мало ли, что может со мной случиться сегодня или завтра, так ты знай, что ты здесь хозяйка. Я сказал об этом могильщику и сторожу — можешь сослаться на них как на свидетелей, если кто захочет тебя отсюда выжить. Однако, думаю, они тебе не тут царствовать, лишь бы я убрался прочь — эти люди немало потрудились, чтобы мы с помешают тобой не достались друг другу, не так ли? Смейся над этим, Розичка, прошу тебя, смейся. Ничего хитрее, как посмеяться над ними, мы не можем придумать.
И Яхим засмеялся так, что низкие своды пещеры страшно загудели.
— Вижу, тебе сегодня не до смеха, — продолжал Яхим, и в глазах его сверкнул прежний огонь; Розичке показалось даже, что он вновь помолодел. — Нет, лучше ты мне, пожалуй, спой. Знаешь, ты так славно певала на пастбище, таким нежным, мягким голоском. Я невольно к нему прислушивался и стыдился этого — ведь я был Скалак. Спой, Розичка: кто знает, придется ли еще нам сидеть вот так вместе. Ты ведь знаешь, против нас весь свет сговорился: сторож, жандарм — все черти по нас плачут.
На этот раз Розичка исполнила его желание и запела; голос у нее был не звонкий, но все еще мягкий и нежный. Пела она все подряд — те песни, что певала когда-то на пастбище, она еще помнила их. Яхим слушал, опустив голову на руку.
— Как послушаю тебя, жена, — молвил он наконец, — так и верится в рай, и в ангелов, и в то, что есть где-то на свете добрые люди, хоть мне их не довелось увидеть. Да, довольно испытал я на этом свете и по своей и по чужой вине, но… жизнь мне не опостылела. А знаешь ли, почему не опостылела? А потому не опостылела, что в ней я повстречал тебя и что ты… меня хотела в мужья взять. — И тут Яхим внезапно встал и вышел из пещеры.
А Розичка пела дальше, и по щекам ее катились крупные чистые слезы. В этой черной, сырой скале она узнала, наконец, что такое счастье.
Однако Яхим все не возвращался. Розичка взяла лучину, чтобы взглянуть, куда он запропал. Она вышла в сени — и лучина выпала у нее из рук. Яхим повесился на крюке над очагом; песни ее были ему пением погребальным.
Тогда она поняла, почему он был так уверен, что жандарм ее из пещеры не выгонит, — Скалак великодушно уступал ей кров, который не мог с ней разделить.
Самоубийцу не хоронят на кладбище, его просто зарывают за кладбищенской оградой. Но Скалаку и этой услуги никто оказать не хотел. Могильщик сказался больным, прослышав, что община может принудить его к этому. Начальник думал уже, что придется посылать за кем-нибудь в город… Тогда Розичка ему сказала, что есть у нее человек, который похоронит Яхима.
Едва наступила ночь, она завернула Яхима в кусок грубого холста, отнесла тело по скользким ступеням вниз, положила на тачку и повезла его рощей, той же дорогой, по которой когда-то шла и нечаянно встретилась с Яхимом, и решила с ним обручиться, а теперь, столько лет спустя, шла его счастливой невестой, чтобы отвезти на кладбище.
Она сама сняла его с тачки, сама положила в могилу, сама засыпала землей. Затем выпрямилась. Платок упал у нее с головы. Она простерла руки к небу. Ее увядшие губы шевелились, жаловались, обвиняли, может быть искали проклятий, но не находили. С плачем упала Розичка на свежий холмик, поцеловала землю и воскликнула сквозь слезы:
— Теперь вот все убедятся, какое у него было доброе сердце!
Я видел Яхимово погребенье, я да звезды на небе — мы одни шли в похоронной процессии. И с той поры я с особым чувством гляжу на вас, благородные дамы с гордым челом и скромно потупленным взором! И когда я слышу, как превозносят ваши добродетели и достоинства, когда вижу, как преклоняются перед силой вашей и духом и дивятся вашему добросердечию, я всегда вспоминаю эту свежую могилу за кладбищенской оградой, подобную ране на груди земли, и огромные, торжественные звезды над ней, и несчастную, распростертую на земле подругу самоубийцы. И я думаю… А вот о чем я думаю, это я расскажу вам когда-нибудь в другой раз.
Перевод К. Бабинской.
Однако Яхим от этого письма пришел в такое бешенство, что священника охватил ужас. Глаза у Яхима остановились, а на губах выступила кровавая пена; он бился об стену, словно потерял рассудок, и рычал, как зверь:
— Разве вы люди! Сперва обвиняете меня во всех смертных грехах, руки воздеваете к небу, а когда я хочу обратиться на путь истинный, тут вы становитесь мне поперек дороги и кричите: мы не желаем, чтобы ты жил среди нас, оставайся там, где был. Все равно тебе ничего не поможет, даже если ворвешься в наш круг — в наших глазах ты до смерти останешься ничтожеством, будь ты само совершенство!
Дурная кровь Скалаков вскипела в парне так, как не бывало раньше: слугам пришлось держать его, чтобы не побежал он к начальнику мстить за оскорбление.
Никак не удавалось утихомирить Яхима: он никого не подпускал к себе, кусал руки тем, кто его держал. Оставалось только приказать батракам, чтобы те заперли его в кладовку и глаз с него не спускали, дабы не сотворил он худа себе или другим; сам же хозяин отправился «На луга» лично убедиться, как обстоит дело.
Далеко идти ему не пришлось: едва он спустился в долину, как повстречал Розичку. Угроза начальника не прошла мимо ее ушей; она знала, что тот вполне может ее осуществить, и опасалась, как бы он не вывел Яхима из себя. Она бросилась прямо к священнику, в надежде умолить преподобного отца быть их заступником перед родичами и общиной.
— Скажи мне только, почему именно Яхима ты выбрала и полюбила? — строго допытывался священник. Розичка была его лучшей, самой прилежной ученицей и любимицей. Он всегда ставил ее в пример. — Неужто ты так же, как все прочие женщины, не видишь в мужчине ничего, кроме смазливой физиономии? А я-то надеялся, что ты сделаешь разумный выбор. Начальник прав: Яхим — один из самых последних людей в нашей округе.
— И вы о том же, преподобный отец! А ведь учите нас, что перед богом все равны, и бедные и богатые, — промолвила Розичка с горестным удивлением. — А я-то думала, что хоть вы признаете, что Яхим теперь совсем другой, порядочный и трудолюбивый.
— Это правда, — успокоил священник плачущую девушку, — я это признаю, и даже больше того, верю, чему прочие верить опасаются: что перемены в нем глубокие. Но от прежнего распутства лежит на нем безобразное пятно, которое так быстро не смоешь. Ибо свет, дорогое дитя, не прощает, и если человек согрешит против его законов, то не дарует свою милость раскаявшемуся, в отличие от господа всемогущего!
— Но ведь остальным до него нет никакого дела. Если меня не тревожит его прошлое, то чего же другим беспокоиться!
— Нельзя так судить, дочь моя. Бог тебя оделил щедрее, чем кого бы то ни было из твоих сестер и братьев. От этого и рождается в них невольная горечь, а ее ты можешь умерить, лишь разумно и по совести распорядившись своим достоянием. Ты же хочешь его разделить с человеком, который слывет распутником и мотом. Конечно, теперь он несколько изменился, но год — слишком краткий срок, а проделки его слишком бросались в глаза, чтобы о них скоро забыли. Поистине, никто не одобряет твоего выбора, и я уверен, что наши соседи приложат все усилия, чтобы ты оставила Яхима и выбрала в женихи человека надежного, безупречного, короче — более себе равного.
Розичка присела на межу, и задумчивый взор ее устремился в небо, где заблестели первые звезды. Священник не мешал ее спокойному раздумью, полагая, что оно способствует благоприятному решению.
— Значит, — начала она серьезно, — свет хочет, чтобы равное тянулось к равному, богатый — к богатой, бедный — к бедной, праведный — к праведной, а бесчестный — к негоднице. Конечно, я всего лишь неопытная, простая девушка, и не мне бы судить о вещах столь возвышенных и важных. Но ведь вы сами нас учили, преподобный отец, что бог является мудрому так же, как и нищему духом, ибо познается он сердцем, а вовсе не ученостью. А мое сердце подсказывает мне, что не может такое правило быть согласным с господней волей, иначе лгало бы писание. Ибо из него мы узнаем, что богач жестокосердный не узрит царствия небесного, а раскаявшийся грешник богу дороже девяти-десяти праведников. Господь воистину хочет, чтобы богач разделил достаток свой с бедным, чтобы сильный был помощником слабому, а добрый, праведный, благородный человек склонился к заблудшему, и имел терпение, и говорил ему слова ласковые, которые тронули бы его и смягчили. Сдается мне, что если бы все так поступали, исчезли бы бедность, зломыслие, грех. А что касается домыслов, будто Яхим не переменился, а лишь прикидывается, чтобы обмануть меня, то это большая ошибка. Ровно год назад я сама дала ему слово, и еще при каких обстоятельствах! Он после попойки валялся в лесу, на голой земле. Он знал, что я слово сдержу, независимо от того, переменится он или нет, и ему не было нужды ломаться и переделываться ради меня. Точно так же ошибаются и те, кто полагает, что он меня обольстил хитрыми речами. Я ему предложила сама, сердце мое разрывалось, видя его унижение, и я знала, что все-таки он добрый человек. Яхим знал, что я его люблю, и, однако, за мной не увивался, потому что я того не хотела, и за весь этот год в первый раз я с ним разговаривала в прошедший праздник. Тогда и сказала, чтобы он попросил разрешения на брак и договорился об оглашении. Я хотела бы поглядеть на того, кто бы все это вот так достоверно знал и все же твердил, что Яхим ничего не стоит!
На этот раз задумался священник.
— Если все так, как ты говоришь, то я и сам удивляюсь. Я не поверил бы, что ему до такой степени удастся перемениться. Однако, девушка, замысел твой все равно очень рискован. Яхим воспитанием обойден, он человек пылкой крови, необузданных страстей. Перепугал он меня нынче. Если бы ты его видела, когда я читал ему письмо начальника, в котором тот отказывает в его просьбе…
В это время наверху в деревне послышались вопли, крики о помощи, плач.
Священник был поражен, так же как и Розичка: у обоих мелькнула одна и та же мысль — не вызван ли этот шум какой-нибудь выходкой Яхима?
Они молча встали и без дальних слов поспешили в деревню. Вдруг навстречу им выскочил всадник; при бледном свете звезд они узнали слугу начальника, мчавшегося во весь опор на неоседланном коне.
— Куда ты так поздно? — окликнул его священник.
— В город за доктором. Скалак добрался до нашего хозяина и ударил его ножом в грудь так, что он в тот же миг свалился. Еще дышит, но доктора дождется едва ли, — прозвучал страшный ответ.
Розичка вскрикнула и потеряла сознание. Конь вздыбился и перемахнул через распростертое на земле тело.
Когда Розичка очнулась, она увидела, что лежит в своей пригожей, чистой горенке и солнце весело заглядывает в оконце, затененное диким виноградом. Кругом было тихо, лишь со двора доносилось кудахтанье и веселое кукареканье. Розичка улыбнулась: всех чаще и голосистее кукарекал пестрый петух — девушка различила его голос среди птичьего гомона.
Потом ей пришло в голову, что, видимо, день наступил давно, раз в доме так тихо: наверное, все работники уже на полях, а она проспала.
Она быстро поднялась, но тут же снова упала на постель.
Только теперь она почувствовала слабость и боль в теле и заметила, что голова ее обернута мокрым платком, а руки забинтованы окровавленными повязками. Розичка удивленно огляделась. На столе стояло множество пузырьков с каплями и микстурами. Она поняла, что долго и тяжело болела и что ей отворяли кровь. Она хотела позвать кого-нибудь, но у нее не хватило на это сил, и она снова потеряла сознание.
После того вечера на дороге у Розички началась горячка, и много дней ее жизнь висела на волоске. Не одна неделя прошла, прежде чем она дозналась, что начальник действительно умер вследствие ранения, нанесенного ему Яхимом, что Яхима увезли в кандалах, что суд над ним уже состоялся и что по великой милости, учитывая, что кровавое преступление совершено в невменяемом состоянии, он осужден лишь на десять лет строгого тюремного заключения.
Поступок Яхима взбудоражил всю округу; имя девушки было у всех на устах.
Близкие от нее отреклись из-за того, что она любовью к распутнику и убийце навлекла такой позор на свой род. Еще во время ее болезни родичи съехали с ее двора. Сказавши, чтобы ни к ним, ни к сестрам, ни к братьям она не смела обращаться, они оставили ее на попечение служанки.
Розичка выслушала это жестокое решение, и ни один мускул на лице у нее не дрогнул.
В голове девушки билась только одна мысль: как можно скорее выздороветь, набраться сил и ехать к Яхиму в Прагу.
Когда же родные увидели, что она не думает вовсе просить у них прощения, и пронюхали о ее намерении ехать за Яхимом, тогда дошло до их сознания, что усадьба «На лугах» — лакомый кусок и что с его владелицей не следовало бы обращаться так бессердечно. Стали подсылать к ней потихоньку разных посредников, чтобы те дали ей понять, что семья смилостивится, если она порвет всякую связь с убийцей. Но Розичка отвечала каждому, что скорее пожертвует спасением души, чем откажется от Яхима, — тем более теперь, когда он несчастен. Оскорбленная родня окончательно исторгла ее из своей среды и уж больше не желала о ней знать ничего.
Наконец Розичка смогла подняться на ноги. Она собрала все наличные деньги. Их было мало, так как отчим оставил лишь самое необходимое. Тогда она продала несколько голов отборного скота и отправилась в Прагу.
Она молила так горячо и расплачивалась так щедро, что в конце концов ей разрешили свидание с Яхимом. С раскрытыми объятиями она бросилась ему навстречу. Но каким страшным он предстал перед ней в своей серой куртке! Она оцепенела, увидев кандалы на его руках и ногах, ужаснулась его дикого взгляда. На нее глядел не Яхим, жених ее, а прежний, злобный Скалак, якшавшийся с бродягами.
— Понадобилось тебе брать меня в мужья! — язвительно обронил он в ответ на ее горючие слезы. — Не будь тебя, сдох бы в какой-нибудь канаве и ничего этого не видел. Из-за тебя мне каждую ночь снится окровавленный человек. Эх вы, бабы! Где бессилен дьявол, туда он вас посылает.
Розичка упала на колени и протянула к нему руки. В мозг ее словно впились раскаленные железные когти, а в глазах отразилось такое безумное отчаяние, что даже суровый Яхим смягчился. Он обнял девушку, и оба заплакали.
Старухой возвратилась Розичка домой. Огненными знаками отпечатались в ее мозгу жестокие слова Яхима — ни днем, ни ночью не шли они у нее из памяти. «Из-за тебя мне каждую ночь снится окровавленный человек!» — непрестанно звучало в душе, и куда бы она ни поглядела, всюду мерещился ей тот же грозный призрак, а рядом с ним — закованный в кандалы Скалак, проклинающий тот день и час, когда он повстречался с ней.
Она ни на что не обращала внимания, предоставив дела их собственному течению. Заломив руки, бродила одна по двору, где так часто видел ее Яхим, издали любуясь ею, занятой хозяйственными заботами, и думая при этом, каким несравненным мужем и хозяином станет в один прекрасный день.
«Боже мой, боже мой! Куда девалась твоя доброта, — роптала она, — если ты допустил все это? Не будь меня, не сидел бы он в тюрьме и, может, был бы счастлив. Надо же мне было предложить ему стать моим мужем!»
И Розичка искала облегчения в молитве. Но каждый раз, когда она показывалась наверху, в Подборах, дети хватали камни и швыряли в нее.
— Вот идет проклятая Скалакова невеста! — кричали они ей вслед чуть ли не до самого костела, и ей приходилось ускорять шаг; у часовни она не осмеливалась даже преклонить колена, словно и к ее рукам пристала кровь, пролитая Яхимом в пылу гнева.
Усадьба скоро пришла в запустение. Работники сами хозяйничали в усадьбе и тащили, что под руку попадет. Розичка ничего не подновляла и не поправляла. Риги протекали, половицы в хлевах сгнили, так что скотина могла сломать ногу, провалившись в дыры; ленивые батраки выкорчевывали в саду лучшие плодовые деревья, чтобы не ездить в лес за дровами; на полях выполнялись лишь самые необходимые работы. Даже семена не собирали: коровы отощали и от бескормицы молока не давали вовсе. Словом, каждый, кто шел мимо усадьбы, мог только всплеснуть руками, видя во всех этих признаках нерадивости и беспорядка божье наказание Розичке за то, что она все еще не забыла «убивца».
Лишь два раза в год разрешали Розичке свидание с Яхимом. Она трепетала перед каждой встречей, ибо он всегда встречал ее упреками. Но все равно ездила в Прагу при первой возможности, надеясь потихоньку проникнуть в тюрьму. Она считала своим скорбным долгом выслушивать его горькие упреки, полагая, что после таких вспышек ему делается легче, и что, видя в ней причину совершенного злодеяния, он перестает чувствовать себя преступником.
Когда ей не удавалось попасть внутрь, она ходила вокруг тюрьмы, гадая, за которым из этих зарешеченных окошек заперт теперь Яхим, и заводила разговоры со стражниками, которые ее уже хорошо знали и пользовались ее положением: выдумывали кто во что горазд и каждый уверял, что оказывает Яхиму некие важные услуги. И Розичка благодарила их «языцем сребреным», побуждая их щедрыми дарами к новым послаблениям несчастному узнику. Она и не догадывалась, что является предметом насмешек этих бессовестных людей и что Яхиму от их посулов ничуть не становится легче.
А Яхим хотел только денег и денег, и его нездоровое, опухшее лицо яснее ясного говорило, для какой цели.
— Когда я лежу в беспамятстве, тогда только меня и отпускает, — ответил он ей, когда она попросила его быть воздержанней. — Хоть тут я забываю того, кого убил из-за тебя: ты меня попутала!
Он уже знал, как легче всего заставить ее замолчать.
После уплаты налогов Розичка обнаружила, что усадьба уже почти не дает никакого дохода. Собранного урожая едва хватало, чтобы прокормить работников, а ведь им надо было еще и платить. И деньги уплывали. Мало того, что в Праге ей приходилось чуть ли не каждому, кто попадался на глаза, совать в руку. И к ней, «На луга», приходили разные люди, отбывшие срок наказания, перед которыми Яхим хвастался своей щедрой, богатой невестой: она, мол, его так любит, что продаст последнюю перину и будет спать на голых камнях, лишь бы ему угодить.
Все эти люди похвалялись особенною дружбой с Яхимом и приходили по его поручению. Были это поджигатели, убийцы и мошенники. Стоило Розичке заглянуть им в глаза, как мороз подирал по коже. Ужас охватывал девушку, когда они называли Яхима своим дружком. Она отдавала им все, что имела, лишь бы избавиться от них. Они же, закоснелые в пороке, смеялись в душе над ее испугом и не шли со двора, не получив требуемого.
Розичка старалась удовлетворять все их просьбы; в конце концов пришлось залезть в долги. Соседи не пожелали ссудить ей ни гроша; тогда она обратилась к ростовщику. Тот знал про упадок Розичкиного хозяйства и предвидел, как и все, ее близкое разорение. Ссуду он дал, но под огромные проценты. Она подписала все, не обсуждая условий. Лишь после этого он принес ей несколько золотых, с которыми она могла поехать к Яхиму.
Так прошли эти десять лет, и вот однажды Розичка возвратилась из Праги, ведя с собою седого, сгорбленного, хромого старика. Никто, даже собственная мать, не узнала бы в нем некогда красивого юношу.
Был он болен и немощен. Розичка поселила его в усадьбе, чтобы легче ухаживать за ним; однако уже на следующий день пришел жандарм и заявил, что он не потерпит в общине такой безнравственности, чтобы неженатый мужчина жил у девушки, и что ему поручено отвести Яхима в его пещеру.
— Ведь мы уже просили о разрешении на свадьбу, — защищалась Розичка, заливаясь слезами, когда больного вытаскивали из постели, чтобы на телеге увезти в его жилище.
Жандарм поднял ее на смех и сказал, что все это был напрасный труд, так как преступник вроде Яхима, никогда не получит разрешения на брак, особенно если он перед этим вел такую распутную жизнь. Затем он сел в телегу рядом с Яхимом, велел кучеру погонять и отвез несчастного в его сырую каменную нору, где не было не то что матраса, но даже охапки соломы. Там он оставил Яхима и уехал, довольный тем, что исполнил свой долг.
Розичка тотчас же послала работника к Яхиму и снабдила его всем, чем могла. Но так продолжалось недолго. Однажды пришла от начальника бумага, где сообщалось о том, что усадьба ее будет продана с молотка, если владелица не заплатит долга. Лишь теперь она поняла, что даже дранка на кровле — и та уже не принадлежит ей. Усадьбу оценили, назначили торг, и как-то вечером Розичка очутилась под голым небом в одном поношенном платьишке, не ведая, где нынешней ночью приклонит голову.
Розичка не плакала, не сетовала. Присела у дороги над ручьем под старой вербой и хотела поразмыслить, как быть. Но мысли не слушались ее: как когда-то несчастная Скалачиха, она отвыкла думать. Она могла только чувствовать — и то не свою беду, а Яхима. Она точно могла определить, когда он страдает от холода, когда — от голода, и тихо мучилась вместе с ним.
Она и сегодня не в состоянии была думать о своей судьбе. Сидела и смотрела на скалу, маячившую перед нею. Солнце только что скрылось, но скала еще сверкала в блеске его последних лучей. Точно так она сверкала и раньше, когда Яхим указывал на нее и говорил пастухам: «Ни у кого из вас нет такого большого и красивого дома, как у меня: видите, ваши дома деревянные, а мой построен из чистого золота!»
Дети знали, что это неправда и злились, что этот Скалак еще и хвастается; лишь она не возмущалась и радовалась, что у Скалака и вправду самый высокий и самый прекрасный дом.
Она оглянулась. Кто-то остановился рядом и довольно долго глядел на нее, не замеченный ею.
Это был Яхим со своей старой, склеенной скрипкой. Он возвращался домой. С той поры как Розичка больше ничего ему не присылала, он стал ходить на большак и там пиликал. Люди, не знавшие его, глядя на седую голову и больные, опухшие ноги, думали, что это старик, измученный трудом и нуждой, и иногда бросали ему грошик в дырявую шапку.
— Что ты сидишь тут? — спросил он ее, однако не так грубо, как обычно.
— Новый хозяин уже перебрался в усадьбу, а больше идти мне некуда, — отвечала она спокойно и без горечи.
— Что ж ты не идешь в пещеру? Или для тебя там слишком грязно?
— Ты знаешь, что нет, мне скала всегда была по сердцу — ведь ты в ней вырос; но я боюсь жандарма. Как узнает, что я у тебя, сразу явится за мной. Но одному богу известно, куда он меня отведет — ведь у меня нет дома! — и Розичка почти улыбнулась, представляя себе, как будет растерян стражник.
— Пошли уж, — сказал Яхим резко. — Не бойся, на этот раз он тебя оставит в покое.
Так Розичка пошла в Скалакову нору. Было там темно и сыро, как в могиле. Яхим зажег лучину, уселся против нее на заплесневелое каменное сиденье и стал опять так же пристально на нее глядеть, как и тогда, когда нашел ее в долине у ручья под вербой.
— Видишь, девка, до чего ты докатилась? — молвил он с усмешкой. — А все оттого, что меня захотела в мужья взять! Ты только глянь в окно, «На луга», на эту славную усадьбу и пастбища. Да из этой усадьбы три можно сделать! Могла бы в ней сидеть, как графиня, выезжать четвериком, люди бы тебе ручки целовали. Что ж не взяли тебя замуж господа служащие и не сделали благородной дамой?! Бот ты возмечтала меня из болота вытянуть, а выходит, я тебя затащил в эту дыру. Кто ты теперь? Бродяжка, нищенка; пес от тебя куска хлеба не примет. Ну, кто мог подумать, что ты будешь рада голову приклонить в этой берлоге, что будешь счастлива, если тебя здесь до самой смерти оставят в покое? Эх, вы, бабы, уж не мешали бы богу в его заботах! Он-то знает, кому должно солнце светить, а на кого послать град. Вот и сиди теперь! На людей не жалуйся: они тебя упреждали достаточно, от каждого могла слышать, что Скалаку цена грош!
Розичка чувствовала глубокую горечь в этой насмешке. Она повернулась к нему, стряхнула отупение, и глаза ее остановились на нем во всем блеске любви и сострадания.
— Слушай, Яхим, — молвила она, — это великое слово, но ты мне, конечно, поверишь, так как убедился, что я не лгу. Если бы я знала, что станет со мной, все равно не поступила бы иначе. Ты был достоин того, чтобы для тебя всем пожертвовать. Мои намерения были добрыми — кто виноват, что все обернулось к худшему? Я к тебе относилась честно… Твоя мать — и та не сделала для тебя столько добра.
— Знаю, знаю, — засмеялся он снова. — И чтобы ты помнила о моей благодарности, я тебе нынче отказываю этот дворец. Мало ли, что может со мной случиться сегодня или завтра, так ты знай, что ты здесь хозяйка. Я сказал об этом могильщику и сторожу — можешь сослаться на них как на свидетелей, если кто захочет тебя отсюда выжить. Однако, думаю, они тебе не тут царствовать, лишь бы я убрался прочь — эти люди немало потрудились, чтобы мы с помешают тобой не достались друг другу, не так ли? Смейся над этим, Розичка, прошу тебя, смейся. Ничего хитрее, как посмеяться над ними, мы не можем придумать.
И Яхим засмеялся так, что низкие своды пещеры страшно загудели.
— Вижу, тебе сегодня не до смеха, — продолжал Яхим, и в глазах его сверкнул прежний огонь; Розичке показалось даже, что он вновь помолодел. — Нет, лучше ты мне, пожалуй, спой. Знаешь, ты так славно певала на пастбище, таким нежным, мягким голоском. Я невольно к нему прислушивался и стыдился этого — ведь я был Скалак. Спой, Розичка: кто знает, придется ли еще нам сидеть вот так вместе. Ты ведь знаешь, против нас весь свет сговорился: сторож, жандарм — все черти по нас плачут.
На этот раз Розичка исполнила его желание и запела; голос у нее был не звонкий, но все еще мягкий и нежный. Пела она все подряд — те песни, что певала когда-то на пастбище, она еще помнила их. Яхим слушал, опустив голову на руку.
— Как послушаю тебя, жена, — молвил он наконец, — так и верится в рай, и в ангелов, и в то, что есть где-то на свете добрые люди, хоть мне их не довелось увидеть. Да, довольно испытал я на этом свете и по своей и по чужой вине, но… жизнь мне не опостылела. А знаешь ли, почему не опостылела? А потому не опостылела, что в ней я повстречал тебя и что ты… меня хотела в мужья взять. — И тут Яхим внезапно встал и вышел из пещеры.
А Розичка пела дальше, и по щекам ее катились крупные чистые слезы. В этой черной, сырой скале она узнала, наконец, что такое счастье.
Однако Яхим все не возвращался. Розичка взяла лучину, чтобы взглянуть, куда он запропал. Она вышла в сени — и лучина выпала у нее из рук. Яхим повесился на крюке над очагом; песни ее были ему пением погребальным.
Тогда она поняла, почему он был так уверен, что жандарм ее из пещеры не выгонит, — Скалак великодушно уступал ей кров, который не мог с ней разделить.
Самоубийцу не хоронят на кладбище, его просто зарывают за кладбищенской оградой. Но Скалаку и этой услуги никто оказать не хотел. Могильщик сказался больным, прослышав, что община может принудить его к этому. Начальник думал уже, что придется посылать за кем-нибудь в город… Тогда Розичка ему сказала, что есть у нее человек, который похоронит Яхима.
Едва наступила ночь, она завернула Яхима в кусок грубого холста, отнесла тело по скользким ступеням вниз, положила на тачку и повезла его рощей, той же дорогой, по которой когда-то шла и нечаянно встретилась с Яхимом, и решила с ним обручиться, а теперь, столько лет спустя, шла его счастливой невестой, чтобы отвезти на кладбище.
Она сама сняла его с тачки, сама положила в могилу, сама засыпала землей. Затем выпрямилась. Платок упал у нее с головы. Она простерла руки к небу. Ее увядшие губы шевелились, жаловались, обвиняли, может быть искали проклятий, но не находили. С плачем упала Розичка на свежий холмик, поцеловала землю и воскликнула сквозь слезы:
— Теперь вот все убедятся, какое у него было доброе сердце!
Я видел Яхимово погребенье, я да звезды на небе — мы одни шли в похоронной процессии. И с той поры я с особым чувством гляжу на вас, благородные дамы с гордым челом и скромно потупленным взором! И когда я слышу, как превозносят ваши добродетели и достоинства, когда вижу, как преклоняются перед силой вашей и духом и дивятся вашему добросердечию, я всегда вспоминаю эту свежую могилу за кладбищенской оградой, подобную ране на груди земли, и огромные, торжественные звезды над ней, и несчастную, распростертую на земле подругу самоубийцы. И я думаю… А вот о чем я думаю, это я расскажу вам когда-нибудь в другой раз.
Перевод К. Бабинской.

Павел КИСЕЛЕВ
Родился в городе-герое Новороссийск. Свою писательскую деятельность начал ещё со школы, участвуя в конкурсах сочинений, после чего навсегда влюбился в литературную романтику. Всегда вдохновлялся подвигами настоящих героев, защищавших свою честь и честь своей Родины. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов и продолжает работать над собственным сборником рассказов различных жанров. Непоколебимо верит в победу любви и добра над злом. Дважды участник Военного Парада на Красной Площади, посвященному Победе в Великой Отечественной войне.
Родился в городе-герое Новороссийск. Свою писательскую деятельность начал ещё со школы, участвуя в конкурсах сочинений, после чего навсегда влюбился в литературную романтику. Всегда вдохновлялся подвигами настоящих героев, защищавших свою честь и честь своей Родины. Обучается в филиале Военной Академии РВСН имени Петра Великого в городе Серпухов и продолжает работать над собственным сборником рассказов различных жанров. Непоколебимо верит в победу любви и добра над злом. Дважды участник Военного Парада на Красной Площади, посвященному Победе в Великой Отечественной войне.
КТО, ЕСЛИ НЕ Я?
Памяти героя Советского Союза
М. М. Корницкого
Героизм был неотъемлемой частью борьбы наших солдат с мраком фашизма в годы Великой Отечественной войны. История знает тысячи примеров, как советские воины ценою собственной жизни, не жалея сил, бросались навстречу опасности, смотря смерти прямо в глаза. Одним из таких солдат, сражавшихся за свою веру и правду, окрылённых любовью к Родине, был командир отделения первого боевого участка морского десанта на Малую землю, младший сержант морской пехоты Михаил Михайлович Корницкий.
Родился будущий герой на хуторе Старо-Зелёный Теучежского района (ныне – республика Адыгея) в октябре 1914 года. К сожалению, в раннем возрасте он осиротел, и, пережив тяжёлое детство, юный Миша окончил школу колхозной молодёжи, а вскоре – и школу мастеров социалистического труда, после чего работал в потребительской кооперации, а с 1936 года – на шорно-седельной фабрике.
За своё трудолюбие и ревностное отношение к делу пользовался уважением у коллег и товарищей и, как подобает целеустремлённому и почётному человеку, в феврале 1940 года с гордостью пошёл в армию. Советско-финская война многому научила Михаила: смелости, решительности, умению быть стойким в трудных ситуациях, а также закалила его тело и дух. Он был направлен служить телеграфистом в 325-й отдельный батальон связи Ленинградского военного округа. Здесь и стал настоящим связистом, мастером своего дела: мог починить различные неисправности своего аппарата в любых условиях и обучал этому других солдат.
После войны, в апреле, Корницкий вернулся к мирному труду на свою фабрику, принимал активное участие в жизни комсомола. Но – вновь Родина-мать зовёт! Великая Отечественная война… С начала мобилизации он, не задумываясь, отправился исполнять свой воинский долг. Его направили нести службу в город Батуми, Грузия, в роту связи 36-го горнострелкового полка 9-й горнострелковой дивизии. Здесь он снова погрузился в родную стихию – военную связь, а все сослуживцы говорили, что, безусловно, это его конёк.
Михаил яростно просился на фронт, ему не хотелось отсиживаться в тылу, он знал, что пригодится на передовой. И его услышали: в мае 1942 года амбициозного телефониста перевели в Анапу сразу на должность командира телефонного отделения 464-го отдельного батальона связи Новороссийской военно-морской базы, где ему присвоили звание младшего сержанта.
Вскоре Корницкий узнал, что его начальником будет майор Ц. Л. Куников, который будет командовать так называемой операцией «Море» – высадкой отвлекающего десанта на плацдарм «Малая земля», которая состоится в ночь на третье февраля 1943 года, пока основные силы укрепятся в Южной Озереевке.
Корницкий старался воспитывать свою группу в духе патриотизма, верности Родине и партии, своей неутомимой деятельностью вдохновлял их на подвиги. Они обучались бросать гранаты в узкие отверстия пулемётных дотов, взбирались на искусственные скалистые берега, тренировались штурмовать здания, умело обращаться со всеми видами оружия, ну и, конечно же, Корницкий как грамотный техник-телефонист подробно рассказывал обо всех аспектах военной связи на поле боя. В конце боевой учёбы предстоял экзамен: учения ночной высадки в зимних условиях. Такая практика в советской морской пехоте была применена впервые, но каждый солдат проявил себя достойно и отработал все нормативы на «отлично». Так Михаил сделал из простых добровольцев обученных, крепких и профессиональных воинов.
Теперь полностью готовое, обученное, а, главное, мотивированное войско численностью в 275 человек вместе с отделением Корницкого переведено в Новороссийск, где уже во всю подготавливалась грядущая операция.
До знаменательного дня, который вскоре войдёт в историю, оставались ровно сутки, и вся военно-морская база собралась на берегу перед катерами для принятия торжественной клятвы перед боем и вступления в партию. Каждый в строю хотел идти в бой коммунистом и прославить Советскую армию.
Корницкий понимал, что именно они, куниковцы, должны взять основной удар немцев на себя. Шансов уцелеть у десантников мало. Но все как один твердили: «Только победа или смерть. Вперёд, братья, вперёд!», и ни у одного не было мыслей об отступлении. Все были стойки, как причал, крепки духом, как скалы, целеустремлённы, как ветер, а потомки впоследствии их назовут «братством презиравших смерть».
Настал тот самый час.
Ночь. Холодный ветер норд-оста оглушающе гудел над морем и нагонял тревогу. Каждый боец был взволнован, но это был не страх, нет, ни в коем случае. Скорее, это было нетерпенье, ведь все ждали этого момента истины, и долгие недели изнуряющих тренировок привели их к решающему испытанию. Для кого-то это был первый бой, боевое крещение, а для кого-то – очередная славная битва.
Строи замерли в оцепенении. Надвигающийся шторм завыл одновременно со взрывами наших канонерских снарядов по укреплениям немцев, нарушая это молчание. Телефонист довёл приказ контр-адмирала Басистого о начале высадки до Куникова, и тот подал команду на погрузку в десантники.
Сбивая своими моторами эту тревожную атмосферу, двинулись вперёд ударные катера, а сразу за ними – и десантные корабли. Всего несколько минут, и свист вражеских снарядов стал оглушать солдат, но ни на каплю не напугал. Пулемётная очередь резко забарабанила по всем бортам корабля, и через пару секунд судно наткнулось на противолодочное заграждение. Дальше плыть невозможно, и трал десантника опустился. Вдохнув полной грудью, Корницкий крикнул: «Вперёд!» – и тут же прыгнул в ледяную воду. Бойцы стиснули в зубах одну ленточку бескозырки, чтобы не потерять её при высадке, ведь потеря этого священного атрибута – позор для морского пехотинца. Вслед за командиром, глубоко вдохнув, чтобы перебороть страх, все по очереди прыгнули в бушующее море. Холодная вода сковывала тело Михаила, замедляла его движения, но делала взгляд хищным и злобным, а сердце его стучало в бешеном ритме.
Как только они вышли на берег, холодный ветер обжёг мокрых воинов своим дыханием, но горяч был дух их, и, словно сирена, криками преисподней для немцев зазвучал боевой клич: «Ура-а-а!!!» Никто и не думал отступать, и уж, тем более, трусить. Корницкий вместе со своей группой подбежал к возвышенности и, уничтожив нескольких немцев, они двинулись к пулемётным дотам. Отважный Миша достал из-за пазухи пару гранат и мигом закинул их в узкое отверстие дота. Готов! Как только пулемёт замолчал, остальным солдатам проход был открыт, и они все смело двинулись вперёд.
Уничтожая одну позицию немцев за другой, войска Куникова полностью захватили Малую землю, обратив артиллерию врага против них, и, хотя высадка основного десанта в Озереевке захлебнулась, он считал операцию успешной. Тем временем, спустя три дня боёв, Корницкий продвинулся со своими воинами вглубь Новороссийска, где силы врага были намного крепче.
Уличный бой в самом разгаре, горела земля, плавился металл… Это был самый настоящий ад на земле. Из-за угла здания один из бойцов увидел приближающуюся опасность. «Танк!» – крикнул он. Корницкий не задумывался ни на минуту: схватив связку гранат, он скрытно подполз к слепой зоне огромного железного монстра и бросил её ему на борт. Мгновение, и танк горит! Из люка повылезали пылающие в огне немцы, а остальные солдаты расстреливали их. Но подкрепление неприятеля подошло быстрее. Не успели они перейти на соседнюю улицу, как с другой стороны дороги показались ещё несколько танков, а немецкие солдаты разбежались, как тараканы, по своим позициям и открыли огонь со всех сторон. Корницкому и его личному составу пришлось отступать, они укрепились в здании школы и не успели ещё перезарядить свои ППШ, перебинтоваться и передохнуть, как услышали крики немцев и автоматные очереди.
«Засекли… Отступать некуда. Мы – в ловушке…» – подумал Михаил и встревоженно стал продумывать план обороны. Его пехотинцы заняли удобные позиции у окон на верхних этажах – так, чтобы сектор обстрела был максимально широким; но по зданию открыли огонь танки.
От жара горящих обломков и раскалённых стволов орудий февральский мороз сменился июльским зноем, и даже холодный ветер, спускавшийся с седой бороды гор, не подбадривал бойцов. Но дух их не был сломлен; сам наш герой был уже дважды ранен. Боеприпасы были на исходе, стремительные удары танков не давали возможности даже высунуться из открытого участка, а радиостанция давно вышла из строя. Помощи ждать неоткуда, но никто не сдавался и не переставал стрелять по немецким захватчикам ни на минуту.
Вдруг крики фашистского войска стали слышны всё ближе к школе – вся улица уже кишела врагами. Все ребята растеряны, каждый понимал: они – окружены, стоять придётся насмерть. Вдруг Корницкий бросил свой взгляд на оставшуюся связку гранат, и бойцы сразу поняли, что задумал младший сержант. Он положил на пол свой ППШ и обвязался этим оружием возмездия, поправил свою бескозырку и крикнул: «Держитесь, товарищи! Я иду на смерть, чтобы выручить вас! Прощайте, боевые друзья!» Полностью забыв про ранения и боль, герой ринулся из окна, полный ненавистью и чувством мести за своих товарищей и за свою Родину, взобрался на забор и кинулся в оцепеневшую от ужаса толпу немцев, выдернув чеку из гранаты. Раздался взрыв такой силы, что остальные солдаты разбежались в страхе в укрытия. Наши морпехи, осмелев от поступка своего командира, воспользовались моментом и выбежали из окружения.
Память героя Советского Союза М. М. Корницкого навечно вписана в страницы славной истории города-героя Новороссийска, увековечена в памятниках и названиях улиц. Лично я считаю, что это – пример не только героизма и настоящей любви к Родине, это ещё и пример любви к товарищам, своим боевым друзьям. Он был окрылён мыслью: «Кто, если не я?» и не задумывался ни на секунду, действовал решительно, не ждал инициативы других, как настоящий командир. Про таких говорят: героями не рождаются… И в самом деле, прожив спокойную советскую жизнь, имея семью и двое детей, он оставил всё и поступил, как подобает традициям русского воинства, как говорил Суворов: «Сам погибай, а товарища выручай». Нельзя забывать о подвигах наших героев.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Памяти героя Советского Союза
М. М. Корницкого
Героизм был неотъемлемой частью борьбы наших солдат с мраком фашизма в годы Великой Отечественной войны. История знает тысячи примеров, как советские воины ценою собственной жизни, не жалея сил, бросались навстречу опасности, смотря смерти прямо в глаза. Одним из таких солдат, сражавшихся за свою веру и правду, окрылённых любовью к Родине, был командир отделения первого боевого участка морского десанта на Малую землю, младший сержант морской пехоты Михаил Михайлович Корницкий.
Родился будущий герой на хуторе Старо-Зелёный Теучежского района (ныне – республика Адыгея) в октябре 1914 года. К сожалению, в раннем возрасте он осиротел, и, пережив тяжёлое детство, юный Миша окончил школу колхозной молодёжи, а вскоре – и школу мастеров социалистического труда, после чего работал в потребительской кооперации, а с 1936 года – на шорно-седельной фабрике.
За своё трудолюбие и ревностное отношение к делу пользовался уважением у коллег и товарищей и, как подобает целеустремлённому и почётному человеку, в феврале 1940 года с гордостью пошёл в армию. Советско-финская война многому научила Михаила: смелости, решительности, умению быть стойким в трудных ситуациях, а также закалила его тело и дух. Он был направлен служить телеграфистом в 325-й отдельный батальон связи Ленинградского военного округа. Здесь и стал настоящим связистом, мастером своего дела: мог починить различные неисправности своего аппарата в любых условиях и обучал этому других солдат.
После войны, в апреле, Корницкий вернулся к мирному труду на свою фабрику, принимал активное участие в жизни комсомола. Но – вновь Родина-мать зовёт! Великая Отечественная война… С начала мобилизации он, не задумываясь, отправился исполнять свой воинский долг. Его направили нести службу в город Батуми, Грузия, в роту связи 36-го горнострелкового полка 9-й горнострелковой дивизии. Здесь он снова погрузился в родную стихию – военную связь, а все сослуживцы говорили, что, безусловно, это его конёк.
Михаил яростно просился на фронт, ему не хотелось отсиживаться в тылу, он знал, что пригодится на передовой. И его услышали: в мае 1942 года амбициозного телефониста перевели в Анапу сразу на должность командира телефонного отделения 464-го отдельного батальона связи Новороссийской военно-морской базы, где ему присвоили звание младшего сержанта.
Вскоре Корницкий узнал, что его начальником будет майор Ц. Л. Куников, который будет командовать так называемой операцией «Море» – высадкой отвлекающего десанта на плацдарм «Малая земля», которая состоится в ночь на третье февраля 1943 года, пока основные силы укрепятся в Южной Озереевке.
Корницкий старался воспитывать свою группу в духе патриотизма, верности Родине и партии, своей неутомимой деятельностью вдохновлял их на подвиги. Они обучались бросать гранаты в узкие отверстия пулемётных дотов, взбирались на искусственные скалистые берега, тренировались штурмовать здания, умело обращаться со всеми видами оружия, ну и, конечно же, Корницкий как грамотный техник-телефонист подробно рассказывал обо всех аспектах военной связи на поле боя. В конце боевой учёбы предстоял экзамен: учения ночной высадки в зимних условиях. Такая практика в советской морской пехоте была применена впервые, но каждый солдат проявил себя достойно и отработал все нормативы на «отлично». Так Михаил сделал из простых добровольцев обученных, крепких и профессиональных воинов.
Теперь полностью готовое, обученное, а, главное, мотивированное войско численностью в 275 человек вместе с отделением Корницкого переведено в Новороссийск, где уже во всю подготавливалась грядущая операция.
До знаменательного дня, который вскоре войдёт в историю, оставались ровно сутки, и вся военно-морская база собралась на берегу перед катерами для принятия торжественной клятвы перед боем и вступления в партию. Каждый в строю хотел идти в бой коммунистом и прославить Советскую армию.
Корницкий понимал, что именно они, куниковцы, должны взять основной удар немцев на себя. Шансов уцелеть у десантников мало. Но все как один твердили: «Только победа или смерть. Вперёд, братья, вперёд!», и ни у одного не было мыслей об отступлении. Все были стойки, как причал, крепки духом, как скалы, целеустремлённы, как ветер, а потомки впоследствии их назовут «братством презиравших смерть».
Настал тот самый час.
Ночь. Холодный ветер норд-оста оглушающе гудел над морем и нагонял тревогу. Каждый боец был взволнован, но это был не страх, нет, ни в коем случае. Скорее, это было нетерпенье, ведь все ждали этого момента истины, и долгие недели изнуряющих тренировок привели их к решающему испытанию. Для кого-то это был первый бой, боевое крещение, а для кого-то – очередная славная битва.
Строи замерли в оцепенении. Надвигающийся шторм завыл одновременно со взрывами наших канонерских снарядов по укреплениям немцев, нарушая это молчание. Телефонист довёл приказ контр-адмирала Басистого о начале высадки до Куникова, и тот подал команду на погрузку в десантники.
Сбивая своими моторами эту тревожную атмосферу, двинулись вперёд ударные катера, а сразу за ними – и десантные корабли. Всего несколько минут, и свист вражеских снарядов стал оглушать солдат, но ни на каплю не напугал. Пулемётная очередь резко забарабанила по всем бортам корабля, и через пару секунд судно наткнулось на противолодочное заграждение. Дальше плыть невозможно, и трал десантника опустился. Вдохнув полной грудью, Корницкий крикнул: «Вперёд!» – и тут же прыгнул в ледяную воду. Бойцы стиснули в зубах одну ленточку бескозырки, чтобы не потерять её при высадке, ведь потеря этого священного атрибута – позор для морского пехотинца. Вслед за командиром, глубоко вдохнув, чтобы перебороть страх, все по очереди прыгнули в бушующее море. Холодная вода сковывала тело Михаила, замедляла его движения, но делала взгляд хищным и злобным, а сердце его стучало в бешеном ритме.
Как только они вышли на берег, холодный ветер обжёг мокрых воинов своим дыханием, но горяч был дух их, и, словно сирена, криками преисподней для немцев зазвучал боевой клич: «Ура-а-а!!!» Никто и не думал отступать, и уж, тем более, трусить. Корницкий вместе со своей группой подбежал к возвышенности и, уничтожив нескольких немцев, они двинулись к пулемётным дотам. Отважный Миша достал из-за пазухи пару гранат и мигом закинул их в узкое отверстие дота. Готов! Как только пулемёт замолчал, остальным солдатам проход был открыт, и они все смело двинулись вперёд.
Уничтожая одну позицию немцев за другой, войска Куникова полностью захватили Малую землю, обратив артиллерию врага против них, и, хотя высадка основного десанта в Озереевке захлебнулась, он считал операцию успешной. Тем временем, спустя три дня боёв, Корницкий продвинулся со своими воинами вглубь Новороссийска, где силы врага были намного крепче.
Уличный бой в самом разгаре, горела земля, плавился металл… Это был самый настоящий ад на земле. Из-за угла здания один из бойцов увидел приближающуюся опасность. «Танк!» – крикнул он. Корницкий не задумывался ни на минуту: схватив связку гранат, он скрытно подполз к слепой зоне огромного железного монстра и бросил её ему на борт. Мгновение, и танк горит! Из люка повылезали пылающие в огне немцы, а остальные солдаты расстреливали их. Но подкрепление неприятеля подошло быстрее. Не успели они перейти на соседнюю улицу, как с другой стороны дороги показались ещё несколько танков, а немецкие солдаты разбежались, как тараканы, по своим позициям и открыли огонь со всех сторон. Корницкому и его личному составу пришлось отступать, они укрепились в здании школы и не успели ещё перезарядить свои ППШ, перебинтоваться и передохнуть, как услышали крики немцев и автоматные очереди.
«Засекли… Отступать некуда. Мы – в ловушке…» – подумал Михаил и встревоженно стал продумывать план обороны. Его пехотинцы заняли удобные позиции у окон на верхних этажах – так, чтобы сектор обстрела был максимально широким; но по зданию открыли огонь танки.
От жара горящих обломков и раскалённых стволов орудий февральский мороз сменился июльским зноем, и даже холодный ветер, спускавшийся с седой бороды гор, не подбадривал бойцов. Но дух их не был сломлен; сам наш герой был уже дважды ранен. Боеприпасы были на исходе, стремительные удары танков не давали возможности даже высунуться из открытого участка, а радиостанция давно вышла из строя. Помощи ждать неоткуда, но никто не сдавался и не переставал стрелять по немецким захватчикам ни на минуту.
Вдруг крики фашистского войска стали слышны всё ближе к школе – вся улица уже кишела врагами. Все ребята растеряны, каждый понимал: они – окружены, стоять придётся насмерть. Вдруг Корницкий бросил свой взгляд на оставшуюся связку гранат, и бойцы сразу поняли, что задумал младший сержант. Он положил на пол свой ППШ и обвязался этим оружием возмездия, поправил свою бескозырку и крикнул: «Держитесь, товарищи! Я иду на смерть, чтобы выручить вас! Прощайте, боевые друзья!» Полностью забыв про ранения и боль, герой ринулся из окна, полный ненавистью и чувством мести за своих товарищей и за свою Родину, взобрался на забор и кинулся в оцепеневшую от ужаса толпу немцев, выдернув чеку из гранаты. Раздался взрыв такой силы, что остальные солдаты разбежались в страхе в укрытия. Наши морпехи, осмелев от поступка своего командира, воспользовались моментом и выбежали из окружения.
Память героя Советского Союза М. М. Корницкого навечно вписана в страницы славной истории города-героя Новороссийска, увековечена в памятниках и названиях улиц. Лично я считаю, что это – пример не только героизма и настоящей любви к Родине, это ещё и пример любви к товарищам, своим боевым друзьям. Он был окрылён мыслью: «Кто, если не я?» и не задумывался ни на секунду, действовал решительно, не ждал инициативы других, как настоящий командир. Про таких говорят: героями не рождаются… И в самом деле, прожив спокойную советскую жизнь, имея семью и двое детей, он оставил всё и поступил, как подобает традициям русского воинства, как говорил Суворов: «Сам погибай, а товарища выручай». Нельзя забывать о подвигах наших героев.
Никто не забыт, ничто не забыто!

Наталья КРАСАВЦЕВА
Родилась в Петрозаводске 24.06.1945. Окончила Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова, специальность – филолог. Профессия – журналист. Жила и работала в Иркутске, на Украине, с 1991 года – в Карелии. Член Союза писателей России с 2011, член правления КРО СП РФ. Награждена почетными грамотами Республики Карелия, Министерства культуры РФ и др.
Изданы книги: «Старая лошадка», «Паккайне-Морозец», «Дедушка, Skype и Outlook Express». В журнале «Север» опубликованы повести – «Квартира», «Встречи, расставания». Книга «Испытание юностью» (2022 г.) в 2023 году по итогам XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» была удостоена Золотого диплома в номинации «Литература для детей и юношества».
Родилась в Петрозаводске 24.06.1945. Окончила Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова, специальность – филолог. Профессия – журналист. Жила и работала в Иркутске, на Украине, с 1991 года – в Карелии. Член Союза писателей России с 2011, член правления КРО СП РФ. Награждена почетными грамотами Республики Карелия, Министерства культуры РФ и др.
Изданы книги: «Старая лошадка», «Паккайне-Морозец», «Дедушка, Skype и Outlook Express». В журнале «Север» опубликованы повести – «Квартира», «Встречи, расставания». Книга «Испытание юностью» (2022 г.) в 2023 году по итогам XIV Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» была удостоена Золотого диплома в номинации «Литература для детей и юношества».
БУДЕМ ПОМНИТЬ ТЕБЯ, СОЛДАТ!
Возникшая в начале нового века народная инициатива, получившая название «Бессмертный полк», на удивление стремительно вошла в нашу жизнь. Останется ли она традицией в том виде, в котором появилась, покажет наша бурно меняющаяся действительность. Но мне кажется, что «Бессмертный полк» уже прочно завоевал свое место в умах и чувствах людей. Народ счел возможным вспомнить соборно, со всеми вместе, не только героев Великой Отечественной, но и каждого, кто доказал свою бескорыстную преданность Отчизне. И в день 9 мая после парада, посвященного Дню Победы, надеюсь, что и впредь мы увидим портреты тех, кто был когда-то или сейчас причастен к защите рубежей великой страны.
Участники шествия всегда идут к центральной части городов и весей, как и у нас в Петрозаводске. В Карелии к портретам героев и близких добавляются еще фотографии узников финских концлагерей.
В среде моих родственников в далекие сороковые все мужчины воевали, причем иные отправлялись на призывной пункт, не дожидаясь повестки. Женская половина с детьми перенесла эвакуацию, оккупацию… многих ждала гибель от голода и болезней. Поэтому мы, дети войны, помним рассказы родителей и тот настрой, с которым после Победы жили взрослые, поднимая страну в буквальном смысле из руин. И сейчас картины нашего детства наиболее ярко всплывают в памяти именно тогда, когда мы празднуем День Защитника Отечества или День народного единства, но более всего Девятое Мая.
В День Победы 2016 года случилось так, что нам с двоюродной сестрой Галей нездоровилось. Забыли, что на севере даже в мае еще прохладно и сыро, поэтому пенсионерам надо было бы поберечься. И вот мы сидим по домам, каждая у своего телевизора, переключаем каналы то на Петрозаводск, то на Москву, чтобы не пропустить начало Бессмертного полка. В столице и у нас шествия начинаются примерно в одно время. Но в Петрозаводске полк проходит много раньше, а в Москве шествие длится порою часами, как и было в том году. Всегда притягивают взгляд совсем незнакомые лица. Их много, и поневоле думается о том, что подавляющее большинство молодых людей тех лет так и не познали радостей и волнений юности…
И если я с тихой грустью погрузилась тогда в воспоминания о своих родителях, то для Гали этот день стал поистине драматичным. В какой-то момент одна из фотографий московского полка показалась ей знакомой. Могло ли так быть? Родственников в Москве у нас нет. Так откуда она могла узнать юношу на портрете? Совсем молодого. Возможно, сфотографировался он еще до Галиного рождения, иначе о нем как-то вспоминали бы в семье. Однако что ни думай, а лицо это было знакомо ей, и видела она это фото не раз и не два. И тут ее осенило…
Галя вытащила старые семейные альбомы и в состоянии крайнего возбуждения начала вглядываться в лица друзей и знакомых своих родителей. И… Вот он! Человек, фото которого несли в московской колонне! Она нашла такое же в альбоме матери. Только было оно небольшим по сравнению с московским портретом, зато с надписью на обороте. Гале было знакомо это короткое нежное послание из далекого-далекого прошлого, но она подзабыла его, и в этот день перечитала с особым трепетом и вниманием. Да, сомнений быть не могло. На фотокарточке (так тогда называли фотографии) был изображен поклонник ее мамы, Екатерины Егоровны, уроженки деревни с ласковым названием Воробьи, что на острове Кижи. Надпись на оборотной стороне фото можно было прочитать, а главное – лицо юноши сохранилось совсем неплохо. Галя представляла себе, как этот привлекательный молодой человек в буденовке дарил свою фотографию любимой девушке Кате. Наверное, получив ранение, отправлен был домой в короткий отпуск. А быть может, ему удалось сфотографироваться уже на фронте? Когда и как они познакомились, никто уже не узнает никогда, маму давно похоронили, а при жизни она, судя по всему, так и не рассказала историю своей первой любви. Наверное, чувства молодых были сильными, иначе отчего она плакала всякий раз при виде старого фото. Гале оставалось лишь вновь представлять себе, как встречалась мама с этим пригожим пареньком, какие слова говорили они друг другу…
В тот день Галя позвонила мне и сказала, что у нее есть весточка прямо с московского «Бессмертного полка». Я быстро собралась и приехала к ней. Сестра показала мне фотографию молодого фронтовика. Я внимательно вглядывалась в нее. Несомненно, солдат обладал приятной наружностью. Подумалось почему-то, что его могли бы снимать в кино, настолько красивым и обаятельным был паренек. Из-под буденовки чуть виднелись светлые волнистые волосы. Скорее всего, глаза у него были тоже светлыми – голубыми или серыми. Ни дать, ни взять – пригожий сказочный Иванушка, только в гимнастерке да взгляд несколько напряжен. Но каким мог быть его не по-юношески строгий серьезный взгляд, если на фронтовом пути таится смерть, а жить и любить так хотелось?..
Вот наивные строки на обороте фотокарточки (текст не правленый):
Катя! Память альбомная
Память не вечная
Скучно в альбом мне писать.
Есть одна память
Это память сердечная.
И еще такая приписка: «Катя! Храни не теряй и о мне вспоминай».
Текст датирован апрелем 1942 года. Галя вспомнила и сказала, что маме еще в те годы стало известно о гибели юноши. Видимо, долго помнила она его, потому что замуж за Галиного отца, моего дядю, вышла поздно, хотя в кавалерах у такой заметной девушки недостатка не было. Были они счастливы в супружестве, и кто скажет теперь, знал или нет муж о ее прежней любви? А если и знал, то наверняка посочувствовал бы ей, так привязан был к своей Катерине.
Галя прослезилась. Мы пересмотрели все старые фотографии, и нами овладело такое чувство, будто встретилась мы с прошлым наших родителей, и как будто открылись нам воспоминания их юности. Конечно, более всего говорили о ней, Екатерине Егоровне с острова Кижи. Яркая была, веселая, но с крутым характером. Могла все – выскоблить голиком добела пол в избе, отправиться после трудового дня и легкого ужина в большущий огород и работать там допоздна. Воскресным утром пекла блины на всю семью, а после обеда нередко бралась за шитье, чтобы появиться утром на работе в новом модном платье. Но не любила вспоминать тяжкие военные годы. Впрочем, и остальные родственники тоже – предпочитали жить настоящим, заново выстраивая свою жизнь и будущее страны.
Вечная им память! И наша благодарность!
И вспоминаются мне строки карельского поэта Олега Мошникова:
Мимо заводи заколдованной
Стороною прошел снегопад.
Обронившая звезды Родина
Будет помнить тебя, солдат!
Возникшая в начале нового века народная инициатива, получившая название «Бессмертный полк», на удивление стремительно вошла в нашу жизнь. Останется ли она традицией в том виде, в котором появилась, покажет наша бурно меняющаяся действительность. Но мне кажется, что «Бессмертный полк» уже прочно завоевал свое место в умах и чувствах людей. Народ счел возможным вспомнить соборно, со всеми вместе, не только героев Великой Отечественной, но и каждого, кто доказал свою бескорыстную преданность Отчизне. И в день 9 мая после парада, посвященного Дню Победы, надеюсь, что и впредь мы увидим портреты тех, кто был когда-то или сейчас причастен к защите рубежей великой страны.
Участники шествия всегда идут к центральной части городов и весей, как и у нас в Петрозаводске. В Карелии к портретам героев и близких добавляются еще фотографии узников финских концлагерей.
В среде моих родственников в далекие сороковые все мужчины воевали, причем иные отправлялись на призывной пункт, не дожидаясь повестки. Женская половина с детьми перенесла эвакуацию, оккупацию… многих ждала гибель от голода и болезней. Поэтому мы, дети войны, помним рассказы родителей и тот настрой, с которым после Победы жили взрослые, поднимая страну в буквальном смысле из руин. И сейчас картины нашего детства наиболее ярко всплывают в памяти именно тогда, когда мы празднуем День Защитника Отечества или День народного единства, но более всего Девятое Мая.
В День Победы 2016 года случилось так, что нам с двоюродной сестрой Галей нездоровилось. Забыли, что на севере даже в мае еще прохладно и сыро, поэтому пенсионерам надо было бы поберечься. И вот мы сидим по домам, каждая у своего телевизора, переключаем каналы то на Петрозаводск, то на Москву, чтобы не пропустить начало Бессмертного полка. В столице и у нас шествия начинаются примерно в одно время. Но в Петрозаводске полк проходит много раньше, а в Москве шествие длится порою часами, как и было в том году. Всегда притягивают взгляд совсем незнакомые лица. Их много, и поневоле думается о том, что подавляющее большинство молодых людей тех лет так и не познали радостей и волнений юности…
И если я с тихой грустью погрузилась тогда в воспоминания о своих родителях, то для Гали этот день стал поистине драматичным. В какой-то момент одна из фотографий московского полка показалась ей знакомой. Могло ли так быть? Родственников в Москве у нас нет. Так откуда она могла узнать юношу на портрете? Совсем молодого. Возможно, сфотографировался он еще до Галиного рождения, иначе о нем как-то вспоминали бы в семье. Однако что ни думай, а лицо это было знакомо ей, и видела она это фото не раз и не два. И тут ее осенило…
Галя вытащила старые семейные альбомы и в состоянии крайнего возбуждения начала вглядываться в лица друзей и знакомых своих родителей. И… Вот он! Человек, фото которого несли в московской колонне! Она нашла такое же в альбоме матери. Только было оно небольшим по сравнению с московским портретом, зато с надписью на обороте. Гале было знакомо это короткое нежное послание из далекого-далекого прошлого, но она подзабыла его, и в этот день перечитала с особым трепетом и вниманием. Да, сомнений быть не могло. На фотокарточке (так тогда называли фотографии) был изображен поклонник ее мамы, Екатерины Егоровны, уроженки деревни с ласковым названием Воробьи, что на острове Кижи. Надпись на оборотной стороне фото можно было прочитать, а главное – лицо юноши сохранилось совсем неплохо. Галя представляла себе, как этот привлекательный молодой человек в буденовке дарил свою фотографию любимой девушке Кате. Наверное, получив ранение, отправлен был домой в короткий отпуск. А быть может, ему удалось сфотографироваться уже на фронте? Когда и как они познакомились, никто уже не узнает никогда, маму давно похоронили, а при жизни она, судя по всему, так и не рассказала историю своей первой любви. Наверное, чувства молодых были сильными, иначе отчего она плакала всякий раз при виде старого фото. Гале оставалось лишь вновь представлять себе, как встречалась мама с этим пригожим пареньком, какие слова говорили они друг другу…
В тот день Галя позвонила мне и сказала, что у нее есть весточка прямо с московского «Бессмертного полка». Я быстро собралась и приехала к ней. Сестра показала мне фотографию молодого фронтовика. Я внимательно вглядывалась в нее. Несомненно, солдат обладал приятной наружностью. Подумалось почему-то, что его могли бы снимать в кино, настолько красивым и обаятельным был паренек. Из-под буденовки чуть виднелись светлые волнистые волосы. Скорее всего, глаза у него были тоже светлыми – голубыми или серыми. Ни дать, ни взять – пригожий сказочный Иванушка, только в гимнастерке да взгляд несколько напряжен. Но каким мог быть его не по-юношески строгий серьезный взгляд, если на фронтовом пути таится смерть, а жить и любить так хотелось?..
Вот наивные строки на обороте фотокарточки (текст не правленый):
Катя! Память альбомная
Память не вечная
Скучно в альбом мне писать.
Есть одна память
Это память сердечная.
И еще такая приписка: «Катя! Храни не теряй и о мне вспоминай».
Текст датирован апрелем 1942 года. Галя вспомнила и сказала, что маме еще в те годы стало известно о гибели юноши. Видимо, долго помнила она его, потому что замуж за Галиного отца, моего дядю, вышла поздно, хотя в кавалерах у такой заметной девушки недостатка не было. Были они счастливы в супружестве, и кто скажет теперь, знал или нет муж о ее прежней любви? А если и знал, то наверняка посочувствовал бы ей, так привязан был к своей Катерине.
Галя прослезилась. Мы пересмотрели все старые фотографии, и нами овладело такое чувство, будто встретилась мы с прошлым наших родителей, и как будто открылись нам воспоминания их юности. Конечно, более всего говорили о ней, Екатерине Егоровне с острова Кижи. Яркая была, веселая, но с крутым характером. Могла все – выскоблить голиком добела пол в избе, отправиться после трудового дня и легкого ужина в большущий огород и работать там допоздна. Воскресным утром пекла блины на всю семью, а после обеда нередко бралась за шитье, чтобы появиться утром на работе в новом модном платье. Но не любила вспоминать тяжкие военные годы. Впрочем, и остальные родственники тоже – предпочитали жить настоящим, заново выстраивая свою жизнь и будущее страны.
Вечная им память! И наша благодарность!
И вспоминаются мне строки карельского поэта Олега Мошникова:
Мимо заводи заколдованной
Стороною прошел снегопад.
Обронившая звезды Родина
Будет помнить тебя, солдат!

Сергей МАЛУХИН
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери в содружестве с писателем Виктором Калинкиным выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню». Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год. Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г., «Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества увлекается спортивными бальными танцами.
Родился в 1961 году. По профессии инженер-строитель. Проживает в г. Красноярск. Автор книг: «Две фантазии», издательство «КУБИК» (Саратов), 2013 г.; роман в 3-х частях «Красноярск-2012», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2014 г.; «Пора жёлтых цветов», издательство «Альтаспера» (Торонто, Канада), 2017 год. В 2015 г. в Твери в содружестве с писателем Виктором Калинкиным выпущена книга рассказов и публицистики о войне «То, что было не со мной, помню». Лауреат Международного литературного конкурса «Золотой Гомер» в номинации «Интересный рассказ», г. Торонто, Канада, 2017 год. Дипломант Всероссийских литературных конкурсов: «Георгиевская лента» 2017 г., короткого рассказа альманаха «Новый Енисейский литератор» 2017 г., «Герои Великой Победы» 2018 г., национальной литературной премии «Писатель года» за 2018 год. Кроме литературного творчества увлекается спортивными бальными танцами.
НА ВОЙНУ
Первый день войны запомнился Ивану Мосягину ослепительным жарким солнцем, красками цветущего лета… и мертвящей тишиной родной деревни. Все односельчане толпились возле правления колхоза имени Сталина, у столба с чёрной тарелкой репродуктора. Слов выступавшего по радио члена правительства Иван не запомнил, лишь врезались в память обрывки речи: «…вероломное нападение», «…бомбили мирные города», «…все, как один», «…дадим отпор врагу!»
Было тревожно и как-то даже радостно: вот – война! Разобьём врага на его территории! Смущала только старая бабка Матрёна Боженькина, стоявшая рядом и истово крестившаяся на репродуктор:
– Опять германец напал! Антихристы! Сколько народу поляжет, Боже мой!
Едва кончилась речь наркома, и по радио зазвучали бравурные марши, завыли-заголосили деревенские бабы. А мужики посуровели и поспешили в поля выполнять свою крестьянскую работу. Чуяли они, что недолго осталось им жить в родной деревне. Увезут их отсюда на чужую сторону, остригут, оденут в шинели и поставят на пути у ревущих танков, пикирующих самолётов. И подставят они свои груди под вражеские снаряды, пули, бомбы, пущенные врагом в их Родину. И немногие из них вернутся после войны к родным полям и нивам.
Ваня весной 1940 года закончил семилетку в ближнем селе Никольском и с той поры работал в своём колхозе учётчиком в бригаде коноплеводов. А молодёжь выбрала его секретарём местной ячейки РКСМ. Бригадир был доволен шустрым, активным пареньком и недавно твёрдо пообещал:
– На будущий год, как уберём урожай, отпущу тебя в город. Поедешь, паря, в сельхозтехникум. Станешь агрономом али землемером. Учись!
Но теперь об учёбе и вообще обо всех планах на мирную жизнь пришлось забыть. Оставалось только работать, терпеть лишения военной поры и ждать. Ждать победы, ждать с фронта мужиков, ждать своей очереди идти на защиту Родины.
Вскоре приехала в деревню на двуколке верховная местная власть: участковый уполномоченный старшина милиции Могилин и с ним военком из района в блестящих хромовых сапогах и с медалью «20 лет РККА» на френче защитного цвета. Начальство провело митинг, оставило полотняный лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» и забрало с собой первую партию призывников. Молодых, сильных мужиков построили в две шеренги и увели за своей двуколкой. Вся деревня провожала их за полверсты, до брода через речку Каменку. Никто из первых солдат не вернулся домой.
Следом постепенно выгребли из деревни и остальное мужское население. Остались только ребятишки да старики, да инвалид Гоша Шепелявый, потерявший ногу на лесоповале.
В августе призвали и Ваниного батяню Степана Мосягина, хотя и было ему уже 42 года. Степан в молодости успел повоевать в гражданскую войну. Сначала он был в партизанском отряде, потом с Красной Армией воевал с белыми бандами и полками «чёрного барона». И вот под старость лет пришлось ему вновь стать под ружьё. В последнюю ночь, слышал Ваня, не спали родители: всё шептались, мать плакала тихо. Отец гудящим шёпотом уговаривал её крепиться, рОстить детей, простить его за реальные и мнимые обиды. Наутро взял батя котомку с чистым бельём, с хлебом, солью да махоркой. Простился с младшими детьми, а Ивану, как большому, пожал руку:
– Живи, Ваньша, будь в доме хозяином! А мы уж там повоюем! Бог даст, прикончим скоро войну. Хорошо бы к весне, чтобы к посевной вернуться. Да и вы, огольцы, не дай Бог, не успели подрасти, чтобы вас война не взяла. Не поминай лихом! Прощевай и будь достоин нашей фамилии!
Ушёл отец с другими деревенскими мужиками, а вместе с ним пошла и мать. Она прильнула к груди мужа и шла, и шла, пока несли её ноги, пока не ослабела она и не упала в дорожную пыль.
Месяца через два пришло от отца и первое письмо – треугольник из тетрадного листочка в косую линейку. Папаня писал, что у него всё хорошо. Полк, где он служит, боевой, крепкий. Ребята во взводе дружные. Командир полка – немолодой, опытный, солдат жалеет, заставляет рыть окопы полного профиля и блиндажи в два, в три наката брёвен. Что «фрицы» (тут вымарано цензурой) всё лезут и лезут, но скоро мы их разобьём и погоним с нашей земли.
Отец слал письма редко, но регулярно. После зимних боёв под Москвой и лёгкого ранения его из пехоты перевели в ездовые, и теперь он занимался более привычным для его крестьянских рук трудом.
Тем временем война и не думала кончаться, а продолжала всё греметь далеко на западе, перемалывать человеческие судьбы и обирать деревню подчистую. Из села забирали всё: мужиков – в солдаты, зерно и животных, чтобы кормить фронт и город, молодёжь, чтобы трудиться на грядущую Победу.
Прошла первая военная страшная зима. За ней – и весна, когда пахали и сеяли только бабы да ребятишки. И работали уже не на тракторах да лошадях, а на коровах да на себе.
Весной, после посевной опять приехал участковый Могилин, забрал Ваню и нескольких его сверстников и сверстниц, отвёз на пристань Сорокина на большой реке. Там молодёжь погрузили на баржи и увезли в областной город Н–ск. В городе они работали на строительстве цехов для эвакуированного с запада паровозного завода. Условия жизни и труда в городе были очень тяжёлыми, да мучила тоска по дому, по родным. Когда Ивана осенью вернули на уборочную в свою деревню, он был страшно рад, хотя работать приходилось от темна до темна и под дождём, и под ранним снегом. А война всё продолжалась, и немец всё ещё стоял у Ленинграда, у Ржева, у Сталинграда.
В 43-м году пришёл срок призыва молодых людей года рождения Ивана. После Нового года почтальонша Груня Чанчикова принесла Мосягиным письмо от Степана из полевого госпиталя. Отец писал, что ранен в руку, хирург оттяпал два пальца, но работать он сможет и, вероятно, скоро вернётся домой, т.к. исполняется ему сорок пять лет и он подлежит демобилизации. И ещё приходил к нему опер из СМЕРШа и допрашивал об обстоятельствах ранения. Но врач заступился и выдал справку, что ранили его, Степана, правильно, что пуля немецкая – разрывная, что самострела не было. Та же почтальонша принесла повестки молодым парням, Ивану и его одногодкам: прибыть 11 января с вещами в райцентр на призывной пункт. И снова мать хлопотала весь вечер, собирая теперь уже сына в дальний путь. Младший брат и сёстры испуганно смотрели с полатей на старшего, который уйдёт от них завтра незнамо куда, на непонятную и страшную войну. Второй брат, мосластый и лобастый Мишатка, не отходил от Ивана, старался сделать для него что-то нужное, приятное. И так же, как отец в 41-м, говорил Мишатке Иван:
– Разобьём скоро мы фашистов, Мишка! Не допустим, чтобы и ты на войну поспел! А ты остаёшься за старшего в семье. Смотри, маманю береги да младших в обиду не давай!
Не знали братья, что и Михаилу придётся повоевать. Пусть и не с немцами, так с японцами. Призовут и его в армию в 1945 году, и будет молодой солдат Миша Мосягин штурмовать японские доты под Муданьцзяном, брать в плен вражеских солдат и офицеров на Квантунском полуострове.
Ночью ворочалась мать, плакала в подушку – тихо, чтобы не разбудить детей. Но Иван и сам почти не спал. Страшно ему было идти на войну, где можно оказаться раненым и даже убитым, прожив всего семнадцать лет и три с половиной месяца! Так хотелось ещё пожить: водить коней в ночное, косить сено в утренней росе, рыбалить на зорьке. И ещё девчонку бы поцеловать, хоть разок!
Но наступило утро. Мать затопила печь, покормила сына на прощанье простыми щами без мяса и дала ему такую же, как отцу, холщовую котомочку. И в ней так же была смена белья, коврига ржаного хлеба, шматочек сала и небольшой мешочек с резаным мелко-мелко табаком. И наказ мать дала: дескать, ты, сынка, сам не кури, а продай в городе табак, а деньги с умом потрать!
И зашагал Иван с пятью своими одногодками по просёлочной дороге, уводящей из родной деревни, и не знал, доведётся ли ему когда-нибудь вернуться сюда. Когда на виду остались только крайние избы, Ваня приотстал от товарищей, обернулся назад и, зажав в кулаке маленький медный крестик, подаренный матерью накануне, срывающимся шёпотом наскоро прочитав молитву, заученную от бабки ещё в раннем детстве, попросил Господа спасти его и сохранить.
В районном центре, в селе Ленинское новобранцев разместили в сборном пункте – холодном деревянном бараке с нарами, битком набитом народом. На другой день их всех чуть ли не бегом прогнали через комнату с врачами и кабинет военкома. Затем во дворе построили в команды и распределили по родам войск. Большинство призывников, конечно же, определили в пехоту. Ивана и его односельчанина Ваську Боженькина, внука бабки Матрёны, записали в артиллеристы. Василий был хороший товарищ, добрый, спокойный, работящий. Да и из себя был парень хоть куда: высокий, сильный, приятный лицом. На него засматривались все деревенские девчата и даже некоторые молодки. Вася же был парнишка скромный и, насколько знал Иван, ещё ни с кем из девушек не дружил.
В середине дня будущих артиллеристов посадили по четверо в конные кошёвки и повезли в ближний уездный городишко М-ск. Парни, не евшие с утра, перекусили дорогой домашним хлебом и кусочками сала размером с мизинец. Тогда же, по подначке более старших парней, Иван попробовал первый раз курить табак. После этого у него долго першило в горле, во рту было противно, но хотя бы есть не хотелось.
Вечером, когда они приехали в М-ск и разместились в казарме, их накормили ужином – пшённой кашей на воде и чаем с кусочком сахара вприкуску. Зато когда утром Иван проснулся и достал из-под подушки котомку, сала в ней уже не было.
В М-ске размещалось миномётное училище ускоренного курса. Здесь учили математике, черчению, геометрии, тригонометрии, тактике, теории артиллерии. Правда, в классах, то есть в казарме, занимались мало, а постигали воинскую премудрость в основном на улице. Да и всякие науки в головы молодых, в основном деревенских парней заходили с трудом. Постоянно хотелось есть, и холод донимал, и занятия строевые, и хозяйственные работы. В конце дня курсанты уставали и засыпали мгновенно, едва добравшись до набитых сеном подушки с матрасом и тонкого одеяла. Строевые занятия и стрельбы проводились на льду ближайшего озера. В январе стояли холода, а в феврале задули северо-западные леденящие ветра. Тонкие шинельки продувало насквозь, ушанки были с завязанными клапанами, которые не разрешалось опускать, пока командир учебного взвода сам не обморозил уши. Тогда он разрешил и курсантам опустить клапаны. Много радости принесло известие о победе под Сталинградом. Значит, и немца можно бить! И жертвы не напрасны! Наше дело правое, мы победим!
Так они прозанимались три месяца. В конце апреля поступил приказ: ускоренный курс выпустить досрочно и отправить на фронт рядовыми бойцами. Срочно провели зачётные стрельбы. Из наиболее шустрых и боевых ребят назначили сержантов – по одному на десять солдат. К гимнастёркам и шинелям пришили полотняные погоны. Через неделю их на грузовиках вывезли на ближайшую железнодорожную станцию. Там к бывшим курсантам добавили несколько выздоровевших раненых из тыловых госпиталей и сформировали маршевый батальон. Пока ожидали состава на запад, слонялись по перрону. Вход на вокзал и выход в город были строго запрещены. В обратном направлении, в сторону областного города Н-ска следовал санитарный поезд. Эшелон остановился для заправки паровоза водой и дровами. Из вагонов вынесли несколько носилок с покрытыми простынями телами умерших в дороге солдат. Отправляющиеся на фронт молча, с грустью и тоской смотрели на смертные носилки, на раненых в окровавленных бинтах и повязках. Их, вероятно, ждало то же или иное. Когда санитарный поезд ушёл дальше, все долго были хмурые и задумчивые.
– Что заскучали, орлы? – спросил Ивана и Васю излечившийся боец, невысокий узкогрудый мужик лет тридцати с хитрым прищуром глаз.
– Страшно, дяденька, – простодушно откликнулся Вася. – А вдруг убьют? Или руку-ногу оторвёт. Кому я тогда нужен буду? Я же не смогу в колхозе работать.
– В колхозе работать?! Ха-ха! Птенчики вы мои! Немец вам головы поотрывает и вместо хвоста вставит! Убьют вас в первом же бою! Чтобы на войне выжить, хитрить надо. Я-то уже повоевал, понюхал пороха. Знаю, как крутиться надо, чтобы выжить. Хотите, и вас научу? Слушайте, птенчики, сюда. Проще всего избежать передовой, это на медкомиссии прикинуться больным, косым, хромым. Но это уметь надо, чтобы поверили. А ещё простой способ: махры наесться – сердце будет колотиться, как очумелое…
На краю платформы показался красноармейский патруль.
– Знаешь что, дядя, ты нам такое не говори, – строго сказал Вася. – За членовредительство знаешь, что бывает? Трибунал! Пойдём, Ваня, от него подальше!
Наконец подали состав из длинного ряда теплушек и одного пульмановского вагона для офицеров. Солдаты по 40 человек заняли товарные вагоны, оборудованные нарами в два этажа и железной печкой. Паровоз, старенькая «овечка», дал длинный гудок и, пыхтя серым паром, медленно двинулся на запад. Ехали не спеша, пропуская литерные составы и срочные военные грузы. В конце мая по объездной дороге проехали Москву. «На Западный фронт едем!» – шептались опытные солдаты. Прошёл слух, что самых сильных, здоровых и грамотных определят в расчёты реактивных миномётов «Катюша». Иван с Васей обрадовались:
– Вот хорошо бы и нам туда попасть! Новая, мощная техника! Тогда бы мы повоевали с фашистами как следует!
На одной из коротких остановок командиры объявили, что всех распределят по видам артиллерии, а через день, по прибытии в тыловые порядки действующей армии, выдадут снаряжение и оружие.
Эшелон с молодым пополнением проехал разрушенный сражениями Смоленск и, ведомый закопченным паровозом, медленно тащился по сшитому на живую нитку пути к станции Красный. Иван с тоской глядел в приоткрытую дверь теплушки на весеннюю зеленеющую землю, на редкие, сожженные дотла деревушки и думал, как же там, дома, как управляются без него мать и Мишка, и скоро ли вернётся в родную деревню из госпиталя отец.
Вдруг сразу несколько голосов заорали: «Воздух!», и тут же где-то впереди раздался оглушительный взрыв. Паровоз дёрнулся и резко завизжал тормозами.
– Все – из вагонов! – раздалась команда. – Укрыться в лесу!
Солдаты с шумом откатили дверь и стали спрыгивать на насыпь. Первый «юнкерс» сбросил бомбы на паровоз и снова взмыл в небо. Следом за ним пикировал второй. С ужасающим воем он пронёсся над составом, стреляя из пулемётов. Иван замешкался в дверях вагона, а внизу на насыпи уже раздались крики и стоны раненых.
– Ты чего, прыгай скорее! – толкнул Ивана в спину Василий.
Они спрыгнули рядом и побежали к зеленеющему невдалеке лесу. «Юнкерс» развернулся на повторную атаку. Следующую бомбу он сбросил в середине состава. Иван услышал пронзительный, щемящий свист, и тут же всё поглотил ужасной силы взрыв. Ивана подхватило взрывной волной и ударило об землю. Тьма покрыла его…
Первое, что он почувствовал в этой тьме, было странное раздвоение, будто он и лежит распластанный на искорёженной земле, и в то же время смотрит на себя со стороны. Над ним, лежащим, стоит Вася Боженькин и, склонив к нему лицо, тихо говорит:
– Ваня, вот мы и приехали на войну…
Очнулся Иван от сильной боли в голове и звона в ушах. Он с трудом открыл глаза и посмотрел на ослепительное голубое небо, кружащееся волчком. Когда небо остановилось, Иван смог повернуть голову и посмотреть в сторону. На расстоянии вытянутой руки от него лежал Вася и широко открытыми глазами смотрел на друга. На его виске чернела большая кровавая дыра. Сквозь звон в ушах Иван расслышал чьи-то голоса:
– Этого всего осколками посекло. Совсем мальчишка. Жить да жить бы ему! Эх-ма-а!
– А энтот, рядом, смотри, целый! Контуженый, что ли? Клади на носилки, в санбате осмотрят.
Сильные руки подняли Ивана, положили на тонкий брезент и, колыхая, понесли в санбат.
Подальше от войны.
Первый день войны запомнился Ивану Мосягину ослепительным жарким солнцем, красками цветущего лета… и мертвящей тишиной родной деревни. Все односельчане толпились возле правления колхоза имени Сталина, у столба с чёрной тарелкой репродуктора. Слов выступавшего по радио члена правительства Иван не запомнил, лишь врезались в память обрывки речи: «…вероломное нападение», «…бомбили мирные города», «…все, как один», «…дадим отпор врагу!»
Было тревожно и как-то даже радостно: вот – война! Разобьём врага на его территории! Смущала только старая бабка Матрёна Боженькина, стоявшая рядом и истово крестившаяся на репродуктор:
– Опять германец напал! Антихристы! Сколько народу поляжет, Боже мой!
Едва кончилась речь наркома, и по радио зазвучали бравурные марши, завыли-заголосили деревенские бабы. А мужики посуровели и поспешили в поля выполнять свою крестьянскую работу. Чуяли они, что недолго осталось им жить в родной деревне. Увезут их отсюда на чужую сторону, остригут, оденут в шинели и поставят на пути у ревущих танков, пикирующих самолётов. И подставят они свои груди под вражеские снаряды, пули, бомбы, пущенные врагом в их Родину. И немногие из них вернутся после войны к родным полям и нивам.
Ваня весной 1940 года закончил семилетку в ближнем селе Никольском и с той поры работал в своём колхозе учётчиком в бригаде коноплеводов. А молодёжь выбрала его секретарём местной ячейки РКСМ. Бригадир был доволен шустрым, активным пареньком и недавно твёрдо пообещал:
– На будущий год, как уберём урожай, отпущу тебя в город. Поедешь, паря, в сельхозтехникум. Станешь агрономом али землемером. Учись!
Но теперь об учёбе и вообще обо всех планах на мирную жизнь пришлось забыть. Оставалось только работать, терпеть лишения военной поры и ждать. Ждать победы, ждать с фронта мужиков, ждать своей очереди идти на защиту Родины.
Вскоре приехала в деревню на двуколке верховная местная власть: участковый уполномоченный старшина милиции Могилин и с ним военком из района в блестящих хромовых сапогах и с медалью «20 лет РККА» на френче защитного цвета. Начальство провело митинг, оставило полотняный лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» и забрало с собой первую партию призывников. Молодых, сильных мужиков построили в две шеренги и увели за своей двуколкой. Вся деревня провожала их за полверсты, до брода через речку Каменку. Никто из первых солдат не вернулся домой.
Следом постепенно выгребли из деревни и остальное мужское население. Остались только ребятишки да старики, да инвалид Гоша Шепелявый, потерявший ногу на лесоповале.
В августе призвали и Ваниного батяню Степана Мосягина, хотя и было ему уже 42 года. Степан в молодости успел повоевать в гражданскую войну. Сначала он был в партизанском отряде, потом с Красной Армией воевал с белыми бандами и полками «чёрного барона». И вот под старость лет пришлось ему вновь стать под ружьё. В последнюю ночь, слышал Ваня, не спали родители: всё шептались, мать плакала тихо. Отец гудящим шёпотом уговаривал её крепиться, рОстить детей, простить его за реальные и мнимые обиды. Наутро взял батя котомку с чистым бельём, с хлебом, солью да махоркой. Простился с младшими детьми, а Ивану, как большому, пожал руку:
– Живи, Ваньша, будь в доме хозяином! А мы уж там повоюем! Бог даст, прикончим скоро войну. Хорошо бы к весне, чтобы к посевной вернуться. Да и вы, огольцы, не дай Бог, не успели подрасти, чтобы вас война не взяла. Не поминай лихом! Прощевай и будь достоин нашей фамилии!
Ушёл отец с другими деревенскими мужиками, а вместе с ним пошла и мать. Она прильнула к груди мужа и шла, и шла, пока несли её ноги, пока не ослабела она и не упала в дорожную пыль.
Месяца через два пришло от отца и первое письмо – треугольник из тетрадного листочка в косую линейку. Папаня писал, что у него всё хорошо. Полк, где он служит, боевой, крепкий. Ребята во взводе дружные. Командир полка – немолодой, опытный, солдат жалеет, заставляет рыть окопы полного профиля и блиндажи в два, в три наката брёвен. Что «фрицы» (тут вымарано цензурой) всё лезут и лезут, но скоро мы их разобьём и погоним с нашей земли.
Отец слал письма редко, но регулярно. После зимних боёв под Москвой и лёгкого ранения его из пехоты перевели в ездовые, и теперь он занимался более привычным для его крестьянских рук трудом.
Тем временем война и не думала кончаться, а продолжала всё греметь далеко на западе, перемалывать человеческие судьбы и обирать деревню подчистую. Из села забирали всё: мужиков – в солдаты, зерно и животных, чтобы кормить фронт и город, молодёжь, чтобы трудиться на грядущую Победу.
Прошла первая военная страшная зима. За ней – и весна, когда пахали и сеяли только бабы да ребятишки. И работали уже не на тракторах да лошадях, а на коровах да на себе.
Весной, после посевной опять приехал участковый Могилин, забрал Ваню и нескольких его сверстников и сверстниц, отвёз на пристань Сорокина на большой реке. Там молодёжь погрузили на баржи и увезли в областной город Н–ск. В городе они работали на строительстве цехов для эвакуированного с запада паровозного завода. Условия жизни и труда в городе были очень тяжёлыми, да мучила тоска по дому, по родным. Когда Ивана осенью вернули на уборочную в свою деревню, он был страшно рад, хотя работать приходилось от темна до темна и под дождём, и под ранним снегом. А война всё продолжалась, и немец всё ещё стоял у Ленинграда, у Ржева, у Сталинграда.
В 43-м году пришёл срок призыва молодых людей года рождения Ивана. После Нового года почтальонша Груня Чанчикова принесла Мосягиным письмо от Степана из полевого госпиталя. Отец писал, что ранен в руку, хирург оттяпал два пальца, но работать он сможет и, вероятно, скоро вернётся домой, т.к. исполняется ему сорок пять лет и он подлежит демобилизации. И ещё приходил к нему опер из СМЕРШа и допрашивал об обстоятельствах ранения. Но врач заступился и выдал справку, что ранили его, Степана, правильно, что пуля немецкая – разрывная, что самострела не было. Та же почтальонша принесла повестки молодым парням, Ивану и его одногодкам: прибыть 11 января с вещами в райцентр на призывной пункт. И снова мать хлопотала весь вечер, собирая теперь уже сына в дальний путь. Младший брат и сёстры испуганно смотрели с полатей на старшего, который уйдёт от них завтра незнамо куда, на непонятную и страшную войну. Второй брат, мосластый и лобастый Мишатка, не отходил от Ивана, старался сделать для него что-то нужное, приятное. И так же, как отец в 41-м, говорил Мишатке Иван:
– Разобьём скоро мы фашистов, Мишка! Не допустим, чтобы и ты на войну поспел! А ты остаёшься за старшего в семье. Смотри, маманю береги да младших в обиду не давай!
Не знали братья, что и Михаилу придётся повоевать. Пусть и не с немцами, так с японцами. Призовут и его в армию в 1945 году, и будет молодой солдат Миша Мосягин штурмовать японские доты под Муданьцзяном, брать в плен вражеских солдат и офицеров на Квантунском полуострове.
Ночью ворочалась мать, плакала в подушку – тихо, чтобы не разбудить детей. Но Иван и сам почти не спал. Страшно ему было идти на войну, где можно оказаться раненым и даже убитым, прожив всего семнадцать лет и три с половиной месяца! Так хотелось ещё пожить: водить коней в ночное, косить сено в утренней росе, рыбалить на зорьке. И ещё девчонку бы поцеловать, хоть разок!
Но наступило утро. Мать затопила печь, покормила сына на прощанье простыми щами без мяса и дала ему такую же, как отцу, холщовую котомочку. И в ней так же была смена белья, коврига ржаного хлеба, шматочек сала и небольшой мешочек с резаным мелко-мелко табаком. И наказ мать дала: дескать, ты, сынка, сам не кури, а продай в городе табак, а деньги с умом потрать!
И зашагал Иван с пятью своими одногодками по просёлочной дороге, уводящей из родной деревни, и не знал, доведётся ли ему когда-нибудь вернуться сюда. Когда на виду остались только крайние избы, Ваня приотстал от товарищей, обернулся назад и, зажав в кулаке маленький медный крестик, подаренный матерью накануне, срывающимся шёпотом наскоро прочитав молитву, заученную от бабки ещё в раннем детстве, попросил Господа спасти его и сохранить.
В районном центре, в селе Ленинское новобранцев разместили в сборном пункте – холодном деревянном бараке с нарами, битком набитом народом. На другой день их всех чуть ли не бегом прогнали через комнату с врачами и кабинет военкома. Затем во дворе построили в команды и распределили по родам войск. Большинство призывников, конечно же, определили в пехоту. Ивана и его односельчанина Ваську Боженькина, внука бабки Матрёны, записали в артиллеристы. Василий был хороший товарищ, добрый, спокойный, работящий. Да и из себя был парень хоть куда: высокий, сильный, приятный лицом. На него засматривались все деревенские девчата и даже некоторые молодки. Вася же был парнишка скромный и, насколько знал Иван, ещё ни с кем из девушек не дружил.
В середине дня будущих артиллеристов посадили по четверо в конные кошёвки и повезли в ближний уездный городишко М-ск. Парни, не евшие с утра, перекусили дорогой домашним хлебом и кусочками сала размером с мизинец. Тогда же, по подначке более старших парней, Иван попробовал первый раз курить табак. После этого у него долго першило в горле, во рту было противно, но хотя бы есть не хотелось.
Вечером, когда они приехали в М-ск и разместились в казарме, их накормили ужином – пшённой кашей на воде и чаем с кусочком сахара вприкуску. Зато когда утром Иван проснулся и достал из-под подушки котомку, сала в ней уже не было.
В М-ске размещалось миномётное училище ускоренного курса. Здесь учили математике, черчению, геометрии, тригонометрии, тактике, теории артиллерии. Правда, в классах, то есть в казарме, занимались мало, а постигали воинскую премудрость в основном на улице. Да и всякие науки в головы молодых, в основном деревенских парней заходили с трудом. Постоянно хотелось есть, и холод донимал, и занятия строевые, и хозяйственные работы. В конце дня курсанты уставали и засыпали мгновенно, едва добравшись до набитых сеном подушки с матрасом и тонкого одеяла. Строевые занятия и стрельбы проводились на льду ближайшего озера. В январе стояли холода, а в феврале задули северо-западные леденящие ветра. Тонкие шинельки продувало насквозь, ушанки были с завязанными клапанами, которые не разрешалось опускать, пока командир учебного взвода сам не обморозил уши. Тогда он разрешил и курсантам опустить клапаны. Много радости принесло известие о победе под Сталинградом. Значит, и немца можно бить! И жертвы не напрасны! Наше дело правое, мы победим!
Так они прозанимались три месяца. В конце апреля поступил приказ: ускоренный курс выпустить досрочно и отправить на фронт рядовыми бойцами. Срочно провели зачётные стрельбы. Из наиболее шустрых и боевых ребят назначили сержантов – по одному на десять солдат. К гимнастёркам и шинелям пришили полотняные погоны. Через неделю их на грузовиках вывезли на ближайшую железнодорожную станцию. Там к бывшим курсантам добавили несколько выздоровевших раненых из тыловых госпиталей и сформировали маршевый батальон. Пока ожидали состава на запад, слонялись по перрону. Вход на вокзал и выход в город были строго запрещены. В обратном направлении, в сторону областного города Н-ска следовал санитарный поезд. Эшелон остановился для заправки паровоза водой и дровами. Из вагонов вынесли несколько носилок с покрытыми простынями телами умерших в дороге солдат. Отправляющиеся на фронт молча, с грустью и тоской смотрели на смертные носилки, на раненых в окровавленных бинтах и повязках. Их, вероятно, ждало то же или иное. Когда санитарный поезд ушёл дальше, все долго были хмурые и задумчивые.
– Что заскучали, орлы? – спросил Ивана и Васю излечившийся боец, невысокий узкогрудый мужик лет тридцати с хитрым прищуром глаз.
– Страшно, дяденька, – простодушно откликнулся Вася. – А вдруг убьют? Или руку-ногу оторвёт. Кому я тогда нужен буду? Я же не смогу в колхозе работать.
– В колхозе работать?! Ха-ха! Птенчики вы мои! Немец вам головы поотрывает и вместо хвоста вставит! Убьют вас в первом же бою! Чтобы на войне выжить, хитрить надо. Я-то уже повоевал, понюхал пороха. Знаю, как крутиться надо, чтобы выжить. Хотите, и вас научу? Слушайте, птенчики, сюда. Проще всего избежать передовой, это на медкомиссии прикинуться больным, косым, хромым. Но это уметь надо, чтобы поверили. А ещё простой способ: махры наесться – сердце будет колотиться, как очумелое…
На краю платформы показался красноармейский патруль.
– Знаешь что, дядя, ты нам такое не говори, – строго сказал Вася. – За членовредительство знаешь, что бывает? Трибунал! Пойдём, Ваня, от него подальше!
Наконец подали состав из длинного ряда теплушек и одного пульмановского вагона для офицеров. Солдаты по 40 человек заняли товарные вагоны, оборудованные нарами в два этажа и железной печкой. Паровоз, старенькая «овечка», дал длинный гудок и, пыхтя серым паром, медленно двинулся на запад. Ехали не спеша, пропуская литерные составы и срочные военные грузы. В конце мая по объездной дороге проехали Москву. «На Западный фронт едем!» – шептались опытные солдаты. Прошёл слух, что самых сильных, здоровых и грамотных определят в расчёты реактивных миномётов «Катюша». Иван с Васей обрадовались:
– Вот хорошо бы и нам туда попасть! Новая, мощная техника! Тогда бы мы повоевали с фашистами как следует!
На одной из коротких остановок командиры объявили, что всех распределят по видам артиллерии, а через день, по прибытии в тыловые порядки действующей армии, выдадут снаряжение и оружие.
Эшелон с молодым пополнением проехал разрушенный сражениями Смоленск и, ведомый закопченным паровозом, медленно тащился по сшитому на живую нитку пути к станции Красный. Иван с тоской глядел в приоткрытую дверь теплушки на весеннюю зеленеющую землю, на редкие, сожженные дотла деревушки и думал, как же там, дома, как управляются без него мать и Мишка, и скоро ли вернётся в родную деревню из госпиталя отец.
Вдруг сразу несколько голосов заорали: «Воздух!», и тут же где-то впереди раздался оглушительный взрыв. Паровоз дёрнулся и резко завизжал тормозами.
– Все – из вагонов! – раздалась команда. – Укрыться в лесу!
Солдаты с шумом откатили дверь и стали спрыгивать на насыпь. Первый «юнкерс» сбросил бомбы на паровоз и снова взмыл в небо. Следом за ним пикировал второй. С ужасающим воем он пронёсся над составом, стреляя из пулемётов. Иван замешкался в дверях вагона, а внизу на насыпи уже раздались крики и стоны раненых.
– Ты чего, прыгай скорее! – толкнул Ивана в спину Василий.
Они спрыгнули рядом и побежали к зеленеющему невдалеке лесу. «Юнкерс» развернулся на повторную атаку. Следующую бомбу он сбросил в середине состава. Иван услышал пронзительный, щемящий свист, и тут же всё поглотил ужасной силы взрыв. Ивана подхватило взрывной волной и ударило об землю. Тьма покрыла его…
Первое, что он почувствовал в этой тьме, было странное раздвоение, будто он и лежит распластанный на искорёженной земле, и в то же время смотрит на себя со стороны. Над ним, лежащим, стоит Вася Боженькин и, склонив к нему лицо, тихо говорит:
– Ваня, вот мы и приехали на войну…
Очнулся Иван от сильной боли в голове и звона в ушах. Он с трудом открыл глаза и посмотрел на ослепительное голубое небо, кружащееся волчком. Когда небо остановилось, Иван смог повернуть голову и посмотреть в сторону. На расстоянии вытянутой руки от него лежал Вася и широко открытыми глазами смотрел на друга. На его виске чернела большая кровавая дыра. Сквозь звон в ушах Иван расслышал чьи-то голоса:
– Этого всего осколками посекло. Совсем мальчишка. Жить да жить бы ему! Эх-ма-а!
– А энтот, рядом, смотри, целый! Контуженый, что ли? Клади на носилки, в санбате осмотрят.
Сильные руки подняли Ивана, положили на тонкий брезент и, колыхая, понесли в санбат.
Подальше от войны.

Григорий НЕЗАМАЙКОВ
Родился на берегу Волги. Бескрайность и неторопливость великой русской реки отразились в моей душе.
С молодых лет пишу стихи, не особо придавая значение этому занятию.
С удовольствием работаю системным администратором, одновременно живу внутри поэзии. Получаются стихи, получаются песни. Поэтому хочется познакомить читателей с примерами моих образов и мыслей. Лауреат и победитель нескольких международных литературных конкурсов. Участник поэтических сборников. Много раз публиковался в периодических изданиях.
Родился на берегу Волги. Бескрайность и неторопливость великой русской реки отразились в моей душе.
С молодых лет пишу стихи, не особо придавая значение этому занятию.
С удовольствием работаю системным администратором, одновременно живу внутри поэзии. Получаются стихи, получаются песни. Поэтому хочется познакомить читателей с примерами моих образов и мыслей. Лауреат и победитель нескольких международных литературных конкурсов. Участник поэтических сборников. Много раз публиковался в периодических изданиях.
ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ
1.
Однажды дед мне сказал:
– А знаешь, я ведь царя видел!
– На троне? В Зимнем дворце?
– Нет, конечно... Мне было лет шесть, мы жили в Нижнем Новгороде. А Николай Второй с большой свитой на низеньком, плоском пароходике плыл вверх по Волге: из Нижнего в Ярославль. В этот день отец взял меня на берег, где было очень много народа. На плечи посадил. Корабль шёл достаточно близко к берегу. По палубе ходили нарядные дамы и такие же кавалеры. Отец показал мне на невысокого человека и сказал: «Вот, смотри, это – царь!» Я разочарованно выдохнул. Мне казалось, что царь должен быть высоким, огромным, большим. А этот – какой-то обыкновенный...
Мой дед, Константин Григорьевич Брендючков, человек уникальной судьбы. Жизнь протащила его через такие жернова, которые неведомы большинству нынешних. Революция, разруха, война, Бухенвальд... Казалось, это должно сломать и уничтожить всё человеческое в душе! Но этого не произошло…
2.
Константин Брендючков появился на свет в октябре 1908 года. И уже после самого рождения начались события невероятные и даже слегка забавные, но об этом – чуть позже.
Детство прошло в семье рабочего Сормовского Нижегородского завода Григория Алексеевича Брендючкова. Григорий Алексеевич был известным профессиональным революционером, членом РСДРП. Вёл переписку со Львом Троцким. Эти письма позже, при Сталине, пришлось уничтожить, от греха подальше, по вполне понятным причинам. В доме бывали известные участники революционного движения. Часто появлялся Максим Горький: пили чай, разговаривали. Дед вспоминал, что Горький очень тепло к нему относился и с радостью брал на колени. Играл, забавлялся, качая на ноге, покуда велись взрослые серьезные разговоры.
Очевидно, наслушавшись, маленький Костя в 1915 году решил отправиться на войну! Заготовил нехитрые харчи, собрал сумку и отправился пешком в сторону боевых действий. Однако был остановлен околоточным и доставлен домой, где был выпорот отцом, но не за побег, а за то, что потерял в грязи одну калошу из недавно купленной пары.
3.
С Максимом Горьким был связан ещё один эпизод.
После окончания Нижегородского электротехникума в 1930 году Константина Брендючкова направили на строительство Челябинского Тракторного завода техником-электриком. Работал он там, как и большинство людей того времени, яростно, истово и с энтузиазмом. И вот через пару лет ясным рабочим днем прибегает комсорг их ячейки и сообщает, что в дирекции его ожидает аж сам писатель Максим Горький! И что немедленно надо идти к нему!
Мой дед, как человек суровый, ответил, что сегодня не первое апреля, и эту шутку он не принимает. Комсорг долго ещё клялся и даже крестился, но потом убежал. Вскоре появился начальник электроцеха с тем же сообщением. Мол, Горький ждёт, хочет поговорить! Вскипев, дед ответил начальнику, что если Горький хочет поговорить, то пускай сам сюда и идет.
Дальнейшее дед описывал так:
— И вот смотрю, по заводскому пустырю приближается ко мне одинокая долговязая фигура, до боли знакомая по газетным фотографиям. Батюшки! Да это же и вправду Алексей Максимович! Подошел, поздоровался, начали говорить…
— А о чем говорили-то?
— Да разговора толком не получилось! Я сам был ошарашен, сконфужен. Так неудобно вышло! А он всё больше спрашивал о моём отце, который умер уже лет пять назад. Коротко рассказал мне что-то про заграницу... Ну, а потом мы простились. Он меня приобнял, сказал: «Ну, будь здоров, сынок!» И отправился в обратную сторону.
4.
А потом... Потом была война. Константин Брендючков был мобилизован в 1941 году и отправлен в составе 52-й стрелковой дивизии на фронт. Воевал под Ржевом, затем – на Харьковском направлении в звании воентехника 1-го ранга. Под городом Славянском (именно под тем Славянском, где сейчас, в данное время, идут бои) Константин Григорьевич Брендючков попал в плен...
Из автобиографии: «В марте 1943 года мастерская, в которой я служил, в составе шести человек, мастеров и рабочих вместе со мной и под командой начальника мастерской, без оружия передвигались ночью на грузовике от города Славянска по указанному нам маршруту, следуя отданному нам приказу. Перед утром наткнулись на какую-то немецкую группировку, зашедшую в тыл нашим частям, и были обстреляны, причем двое были убиты, а остальные захвачены в плен».
Дальше были несколько тюрем во Владимире-Волынском, в Ченстохове, в Лимбурге. И вот в августе 1943 года он и группа других советских офицеров оказались перед строением с железными воротами, на которых было написано: «Jedem das Seine» («Каждому – своё»).
Это были ворота немецкого концлагеря Бухенвальд.
5.
В этом жутком месте моему деду предстояло провести почти два года.
Бухенвальд был лагерем смерти. Это означало, что он был конечной точкой для заключенных. Отсюда никого никуда не отправляли, кроме как в крематорий. Смерть была привычной, она всегда была рядом, она стояла через одного в строю на поверках на аппельплаце. Любой эсэсовец имел право застрелить заключенного просто так, без объяснений. И они этим правом пользовались. Любой охранник на вышке мог ночью, услышав некий шум в бараке, дать очередь из пулемёта по крыше. Это означало: «Эй, вы, потише там!» И никого не волновало, что утром из этого барака выносили несколько трупов.
Но как бы то ни было, люди продолжали жить в таких условиях. Рядом с лагерем предприимчивые немцы возвели мебельную фабрику, где использовали труд заключенных. Это было неизбежным, но взаимовыгодным обстоятельством. Немцы получали дармовой труд, а заключенные – нужные им для разных целей инструменты и материалы. Так же важным делом было общение с внешним миром. Это занятие было выгодно и лагерному подполью, которое и определило Константина Брендючкова как специалиста по электрооборудованию на такую работу.
6.
Удивительно, но в критических ситуациях в человеке иногда просыпаются скрытые способности. Вот и у моего деда совершенно внезапно в лагере смерти Бухенвальд проявилось литературное умение писать стихи и прозу. Сначала это выражалось в коротких, хорошо запоминающихся стихах-четверостишиях, к несчастью, не сохранившихся. Потом появилась лирика и патриотические строки.
К концу войны условия содержания заключенных стали немного мягче. Эсэсовцы уже не так лютовали, чувствовали неминуемое поражение. И тогда удалось совершить чудо! Совершенно невероятным образом удалось организовать самодеятельный театр. Константин Григорьевич по памяти записал пьесу Чехова «Медведь». Заключенные поставили и отрепетировали эту пьесу. Несколько раз её показывали в разных блоках лагеря.
После «Медведя» Константин Григорьевич уже сам написал две пьесы для этого театра: «Потомки Чапаева» и «Жестокий факультет». Эти пьесы тоже были поставлены в самодеятельном театре. Оригиналы текста этих двух пьес по сей день хранятся в музее Бухенвальда.
7.
До 1944 года побегов из Бухенвальда не было. Точнее, происходили попытки побега, но все они были неудачными. В 1944 - 1945 годах, когда режим стал мягче, начались удачные побеги из лагеря. Однако дважды бежать не удавалось никому. Никому, кроме Константина Брендючкова!
Первый раз удалось бежать зимой 1945 года, в феврале. И всё получилось бы удачно, но, переправляясь через несколько рек вплавь в холода, дед заболел. В бессознательном состоянии его обнаружила немецкая военная полиция и переправила обратно в Бухенвальд.
И быть бы ему наутро публично казненному, но подпольщики исхитрились его спасти. Были подобраны ключи к помещению каземата, где тот находился (пригодились инструменты), и имитировали самоубийство. Вместо живого человека подсунули какое-то мертвое тело, которых по лагерю было в избытке. Оборвали проводку на стене, якобы произошел удар электротоком. К счастью, имитация удалась, и очутился мой дед опять в бараке среди заключенных, но под другим номером и с другим именем.
Второй раз убежать получилось уже удачно буквально за несколько дней до знаменитого Бухенвальдского восстания, в самом начале апреля 1945 года. Гитлеровцы начали перевозить заключенных в другие места, подальше от фронта, и перед отправкой из эшелона Константин Григорьевич бежал. Через некоторое время был окончательно освобожден нашими частями в районе города Выстриц в Судетской области. Вот так и получился единственный в истории Бухенвальда «двойной» побег.
Через много-много лет я неожиданно познакомился со «следами» этих побегов. Как-то дед попросил меня:
– Пожалуйста, не клади чеснок в это блюдо! Или приготовь мне отдельно, без чеснока!
– Что такое? Почему?
– Да, знаешь... В войну, когда я первый раз убежал из Бухенвальда, то две недели пробирался на восток. Ночью двигался, а днем залегал где-нибудь в укромном месте, чтобы не быть обнаруженным. Однажды два дня провел на огромном поле, засеянном чесноком. Передвигаться было невозможно, а кушать, как понимаешь, хотелось. Вот и пришлось через силу одним чесноком питаться. До сих пор его терпеть не могу!..
8.
После Победы дед вернулся к семье, которая проживала всю войну в городе Ветлуга Нижегородской (тогда – Горьковской) области. Встретили его жена Екатерина и дочь Ариадна, моя будущая мама. Это именно к ним он обращался из далекого Веймара строками своей поэмы «Позёмка»:
Дорогая! Далекая! Милая!
Ни с каких не увидишь сторон,
Как влачу свою жизнь через силу я,
Отстреляв свой последний патрон.
Ты не слышишь, как дышит задавленно
Изнемогший в неволе барак.
На квартирах далеких оставлена
Довоенная наша пора.
Мне пришлось очерстветь и озлобиться,
Привыкая врага убивать.
Помоги не забыть твоего лица,
Человечности не растерять.
Дай мне вспомнить, как летом к заутрене
Поспешала спросонья река,
Самоцветами и перламутрами
Принималась небрежно сверкать.
Про леса мне напомни про давние,
Где в избушке у богатырей
Непоруганно дремлют сказания
Под загадочный крик журавлей.
Все затмило военной метелицей,
Тяжко жить, об утратах скорбя.
А любовь моя поровну делится –
На Отечество и на тебя.
Знать, земля не в ту сторону кружится,
А над ней бомбовозы гудят.
Пожелай мне великого мужества.
Снись почаще! Тоскует солдат...
Отдохнув, Константин Григорьевич занялся преподавательской деятельностью в местном техникуме. Преподавал математику, черчение и электротехнику. Одновременно получил прерванное войной высшее педагогическое образование.
9.
А когда Константин Григорьевич выправлял себе утерянные документы, вышел забавный казус, открывший некоторые подробности его младенчества.
В то время по традиции после крещения надо было выправлять метрику, то есть свидетельство о рождении, говоря современным языком. Перед этим родители собрали стол, позвали родственников и достаточно хорошо «посидели». Оформлять метрику вызвалась кума. Быстро собралась и ушла. Вернулась довольная: «Все хорошо, записала Костю!» Ее спросили, на какую фамилию записала-то? «Меня спросили фамилию, я назвала свою. Я же – Волкова!» Обругали куму дурой безмозглой, и уже кум отправился исправлять оплошность. Вернулся: «Ну вот, всё поправили». А на какую фамилию-то поправили? «Так я же – Ометов! На эту и поправили». Тут уж поднялся отец, Григорий Алексеевич, и лично, сам пошел. Выправили фамилию на Брендючкова.
И вот, по какой-то неизвестной причине неправильные записи в книге не удалили, оставили действующими. Служащий ЗАГС ошарашенно сообщил моему деду, что он может на вполне законных основаниях выбрать себе одну фамилию из трех: Ометов, Волков или Брендючков. Разумеется, дед выбрал фамилию своих родителей и стал Брендючковым.
10.
Но и литературная работа не отпускала. В эти годы Константин Григорьевич написал роман «Дважды рожденные», где подробно рассказал о событиях в Бухенвальде. Быт заключенных, филигранная и опасная деятельность подполья, подготовка восстания – всё это было отражено в романе, который вышел в свет в 1958 году. Однако работа над книгой продолжалась, и в 1961 году было выпущено второе издание – дополненное.
Немного погодя Константин Григорьевич Брендючков был принят в Союз писателей РСФСР.
Когда я работал над этими воспоминаниями, обнаружил интересную газетную вырезку того времени. Газета «Литература и жизнь» от 30.12.1962: «Секретариат правления Союза писателей РСФСР принял в члены союза новую группу литераторов. Среди них – автор повести «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицын. В союз приняты: Абдашев Ю. Н. (Краснодар), Белоногов А.Е. (Удмуртия)... Брендючков К. Г. (Ярославль)... Солженицын А. И. (Рязань)...» Хорошая компания!
А следующей книгой после «Дважды рожденных» была вторая – «Школьный выдумщик». Разумеется, про школу, про учителей, про их работу, их самоотдачу.
11.
В середине 60-х дед переехал в небольшой поселок Семибратово неподалеку от Ярославля. Там, на заводе газоочистительной аппаратуры он устроился инженером-конструктором. Затем работал в филиале научно-исследовательского института заведующим лабораторией. Именно в институте НИИОГАЗ проявилась инженерная и изобретательская жилка: только по специализации он получил более десяти авторских свидетельств на изобретения. А кроме того, посылал заявку на изобретение пишущей машинки для нот. Много лет работал над изобретением роторного двигателя и несколько раз даже посылал заявки. Как он уверял, два раза опаздывал на пару лет от аналогичных изобретений.
По литературной «прописке» он числился в Ярославском отделении Союза писателей СССР. Очень часто ездил на встречи с читателями, «на гастроли», как он говорил. Кроме всего прочего это был небольшой заработок, потому как с 1970 года дед уже был на пенсии.
А вот 11 апреля каждого года Константин Григорьевич надевал свой парадный пиджак с медалями и отправлялся в Москву. В одной из школ Москвы, в школе №1577 (ранее это была школа №752) находился музей «Бухенвальдский набат». По мере возможностей, там собирали встречи уцелевших узников это лагеря. И не только из СССР, но и из других стран. Приезжали даже немецкие узники-коммунисты. Константин Григорьевич называл это «встречами выпускников». Один раз и я был вместе с дедом на такой встрече, видел этих легендарных людей.
12.
Несмотря на то, что никаких репрессий к деду по поводу его плена не было никогда, сам он постоянно опасался последствий. «Да! Найдется какая-нибудь сволочь, узнает про плен, вот и обеспечат цугундер!» – не раз говорил он мне и добавлял: «Вот увидишь, и тебя это тоже коснется!»
Не коснулось.
Но как-то раз был случай... Вот как это описывал Константин Григорьевич.
«Однажды за мной всё-таки пришли! За дверью – двое:
– Вы Константин Григорьевич Брендючков?
Я отвечаю:
– Да.
– Вы должны проехать с нами!
– А собраться можно? – спрашиваю.
– Этого не требуется.
Вышли на улицу, там «воронок» стоит с водителем. Посадили меня вперед, сами сели на заднее сидение. Думаю: вот олухи, я же могу по дороге выпрыгнуть попытаться. Хоть шею свернуть, да не мучиться! Приехали в Ярославль, остановились перед воротами некого здания. Перед воротами – охрана. Ну что же, думаю, дело знакомое: тюрьма! Завели в здание, оставили в какой-то закрытой комнате: «Сейчас за вами придут! Подождите!» Приходит женщина: «Константин Григорьевич Брендючков? Следуйте за мной!» Следую. Коридор. Заходим в большое помещение. И тут вижу: зрительный зал, битком набитый людьми в форме, сцена, на сцене президиум сидит. Один из президиума встал и говорит: «А теперь давайте поприветствуем писателя Брендючкова! Он в свое время был заключённым в немецких тюрьмах и многое может рассказать о режимных особенностях этих заведений...»
– Ничего себе! И что дальше?
– Ну, что... отдышался, начал рассказывать. Должен сказать, беседа хорошая получилась, содержательная. Это, оказывается, был слет офицеров исправительных учреждений. Они много вопросов задавали. Правильные вопросы, по делу!
– Но слушай, ведь так инфаркт получить можно!
– А я потом с начальством той конторы побеседовал. Извинился полковник. А тем двоим бо-ольшой нагоняй был. Чтобы не шутили так.
13.
Оставшийся отрезок жизни деда всё равно был заполнен работой. Увлекся фантастикой и очень много читал. В местную библиотеку он ходил чаще, чем в продуктовый магазин. Завел тетрадь, где записывал прочитанные книги («Ты смотри, я ведь это уже читал пять лет назад!..») и ставил оценки – своего рода рейтинг. Написал и издал фантастическую повесть «Последний ангел». Кстати, даже сегодня, если погуглить, можно не только найти и скачать эту повесть, но и встретить несколько весьма положительных рецензий с подробным и умным разбором сюжета.
Работал над словарем рифм. Чуть ли не половина черновиков в архиве – это страницы рифмованных подборок. На вопрос: «Дед, а нафига это надо?», прищурившись, ехидно отвечал: «А ты назови рифму к слову «окунь»? А у меня есть!» Но здесь, к сожалению, компьютер переплюнул Константина Григорьевича. Сегодня в сети много сайтов для подбора рифм, хотя все они грешат неточностью.
Но любимое детище Константина Григорьевича всё-таки не дошло до официальной публикации. Десятки лет он работал над поэмой «Позёмка», посвященной подвигу бухенвальдцев. Частично отрывки были изданы в журналах, но полностью она увидела свет только в Самиздате. Были вручную отпечатаны и переплетены десяток экземпляров, которые разошлись по близким людям.
14.
Последний удар ждал Константина Григорьевича на излёте. Ушли из жизни самые близкие ему люди: сначала его жена, Екатерина Герасимовна, с которой он прожил более 60 лет, потом его дочь Ариадна. Однако он не остался в одиночестве. Он смог дождаться даже своих правнуков.
Видимо, сжалившись, испытав на этом человеке все ужасы, которые только можно придумать, судьба одумалась. Как ни жестоко это прозвучит, но она подарила Константину Григорьевичу Брендючкову быструю и безболезненную смерть. Как от пули. Как от пули, догнавшей его через полвека.
Он умер в декабре 1994 года легко и мгновенно.
Примерно за месяц до смерти он сказал мне, что хочет подтянуть свой немецкий язык. Набрал учебников в библиотеке, и долго по вечерам горела настольная лампа в его кабинете...
1.
Однажды дед мне сказал:
– А знаешь, я ведь царя видел!
– На троне? В Зимнем дворце?
– Нет, конечно... Мне было лет шесть, мы жили в Нижнем Новгороде. А Николай Второй с большой свитой на низеньком, плоском пароходике плыл вверх по Волге: из Нижнего в Ярославль. В этот день отец взял меня на берег, где было очень много народа. На плечи посадил. Корабль шёл достаточно близко к берегу. По палубе ходили нарядные дамы и такие же кавалеры. Отец показал мне на невысокого человека и сказал: «Вот, смотри, это – царь!» Я разочарованно выдохнул. Мне казалось, что царь должен быть высоким, огромным, большим. А этот – какой-то обыкновенный...
Мой дед, Константин Григорьевич Брендючков, человек уникальной судьбы. Жизнь протащила его через такие жернова, которые неведомы большинству нынешних. Революция, разруха, война, Бухенвальд... Казалось, это должно сломать и уничтожить всё человеческое в душе! Но этого не произошло…
2.
Константин Брендючков появился на свет в октябре 1908 года. И уже после самого рождения начались события невероятные и даже слегка забавные, но об этом – чуть позже.
Детство прошло в семье рабочего Сормовского Нижегородского завода Григория Алексеевича Брендючкова. Григорий Алексеевич был известным профессиональным революционером, членом РСДРП. Вёл переписку со Львом Троцким. Эти письма позже, при Сталине, пришлось уничтожить, от греха подальше, по вполне понятным причинам. В доме бывали известные участники революционного движения. Часто появлялся Максим Горький: пили чай, разговаривали. Дед вспоминал, что Горький очень тепло к нему относился и с радостью брал на колени. Играл, забавлялся, качая на ноге, покуда велись взрослые серьезные разговоры.
Очевидно, наслушавшись, маленький Костя в 1915 году решил отправиться на войну! Заготовил нехитрые харчи, собрал сумку и отправился пешком в сторону боевых действий. Однако был остановлен околоточным и доставлен домой, где был выпорот отцом, но не за побег, а за то, что потерял в грязи одну калошу из недавно купленной пары.
3.
С Максимом Горьким был связан ещё один эпизод.
После окончания Нижегородского электротехникума в 1930 году Константина Брендючкова направили на строительство Челябинского Тракторного завода техником-электриком. Работал он там, как и большинство людей того времени, яростно, истово и с энтузиазмом. И вот через пару лет ясным рабочим днем прибегает комсорг их ячейки и сообщает, что в дирекции его ожидает аж сам писатель Максим Горький! И что немедленно надо идти к нему!
Мой дед, как человек суровый, ответил, что сегодня не первое апреля, и эту шутку он не принимает. Комсорг долго ещё клялся и даже крестился, но потом убежал. Вскоре появился начальник электроцеха с тем же сообщением. Мол, Горький ждёт, хочет поговорить! Вскипев, дед ответил начальнику, что если Горький хочет поговорить, то пускай сам сюда и идет.
Дальнейшее дед описывал так:
— И вот смотрю, по заводскому пустырю приближается ко мне одинокая долговязая фигура, до боли знакомая по газетным фотографиям. Батюшки! Да это же и вправду Алексей Максимович! Подошел, поздоровался, начали говорить…
— А о чем говорили-то?
— Да разговора толком не получилось! Я сам был ошарашен, сконфужен. Так неудобно вышло! А он всё больше спрашивал о моём отце, который умер уже лет пять назад. Коротко рассказал мне что-то про заграницу... Ну, а потом мы простились. Он меня приобнял, сказал: «Ну, будь здоров, сынок!» И отправился в обратную сторону.
4.
А потом... Потом была война. Константин Брендючков был мобилизован в 1941 году и отправлен в составе 52-й стрелковой дивизии на фронт. Воевал под Ржевом, затем – на Харьковском направлении в звании воентехника 1-го ранга. Под городом Славянском (именно под тем Славянском, где сейчас, в данное время, идут бои) Константин Григорьевич Брендючков попал в плен...
Из автобиографии: «В марте 1943 года мастерская, в которой я служил, в составе шести человек, мастеров и рабочих вместе со мной и под командой начальника мастерской, без оружия передвигались ночью на грузовике от города Славянска по указанному нам маршруту, следуя отданному нам приказу. Перед утром наткнулись на какую-то немецкую группировку, зашедшую в тыл нашим частям, и были обстреляны, причем двое были убиты, а остальные захвачены в плен».
Дальше были несколько тюрем во Владимире-Волынском, в Ченстохове, в Лимбурге. И вот в августе 1943 года он и группа других советских офицеров оказались перед строением с железными воротами, на которых было написано: «Jedem das Seine» («Каждому – своё»).
Это были ворота немецкого концлагеря Бухенвальд.
5.
В этом жутком месте моему деду предстояло провести почти два года.
Бухенвальд был лагерем смерти. Это означало, что он был конечной точкой для заключенных. Отсюда никого никуда не отправляли, кроме как в крематорий. Смерть была привычной, она всегда была рядом, она стояла через одного в строю на поверках на аппельплаце. Любой эсэсовец имел право застрелить заключенного просто так, без объяснений. И они этим правом пользовались. Любой охранник на вышке мог ночью, услышав некий шум в бараке, дать очередь из пулемёта по крыше. Это означало: «Эй, вы, потише там!» И никого не волновало, что утром из этого барака выносили несколько трупов.
Но как бы то ни было, люди продолжали жить в таких условиях. Рядом с лагерем предприимчивые немцы возвели мебельную фабрику, где использовали труд заключенных. Это было неизбежным, но взаимовыгодным обстоятельством. Немцы получали дармовой труд, а заключенные – нужные им для разных целей инструменты и материалы. Так же важным делом было общение с внешним миром. Это занятие было выгодно и лагерному подполью, которое и определило Константина Брендючкова как специалиста по электрооборудованию на такую работу.
6.
Удивительно, но в критических ситуациях в человеке иногда просыпаются скрытые способности. Вот и у моего деда совершенно внезапно в лагере смерти Бухенвальд проявилось литературное умение писать стихи и прозу. Сначала это выражалось в коротких, хорошо запоминающихся стихах-четверостишиях, к несчастью, не сохранившихся. Потом появилась лирика и патриотические строки.
К концу войны условия содержания заключенных стали немного мягче. Эсэсовцы уже не так лютовали, чувствовали неминуемое поражение. И тогда удалось совершить чудо! Совершенно невероятным образом удалось организовать самодеятельный театр. Константин Григорьевич по памяти записал пьесу Чехова «Медведь». Заключенные поставили и отрепетировали эту пьесу. Несколько раз её показывали в разных блоках лагеря.
После «Медведя» Константин Григорьевич уже сам написал две пьесы для этого театра: «Потомки Чапаева» и «Жестокий факультет». Эти пьесы тоже были поставлены в самодеятельном театре. Оригиналы текста этих двух пьес по сей день хранятся в музее Бухенвальда.
7.
До 1944 года побегов из Бухенвальда не было. Точнее, происходили попытки побега, но все они были неудачными. В 1944 - 1945 годах, когда режим стал мягче, начались удачные побеги из лагеря. Однако дважды бежать не удавалось никому. Никому, кроме Константина Брендючкова!
Первый раз удалось бежать зимой 1945 года, в феврале. И всё получилось бы удачно, но, переправляясь через несколько рек вплавь в холода, дед заболел. В бессознательном состоянии его обнаружила немецкая военная полиция и переправила обратно в Бухенвальд.
И быть бы ему наутро публично казненному, но подпольщики исхитрились его спасти. Были подобраны ключи к помещению каземата, где тот находился (пригодились инструменты), и имитировали самоубийство. Вместо живого человека подсунули какое-то мертвое тело, которых по лагерю было в избытке. Оборвали проводку на стене, якобы произошел удар электротоком. К счастью, имитация удалась, и очутился мой дед опять в бараке среди заключенных, но под другим номером и с другим именем.
Второй раз убежать получилось уже удачно буквально за несколько дней до знаменитого Бухенвальдского восстания, в самом начале апреля 1945 года. Гитлеровцы начали перевозить заключенных в другие места, подальше от фронта, и перед отправкой из эшелона Константин Григорьевич бежал. Через некоторое время был окончательно освобожден нашими частями в районе города Выстриц в Судетской области. Вот так и получился единственный в истории Бухенвальда «двойной» побег.
Через много-много лет я неожиданно познакомился со «следами» этих побегов. Как-то дед попросил меня:
– Пожалуйста, не клади чеснок в это блюдо! Или приготовь мне отдельно, без чеснока!
– Что такое? Почему?
– Да, знаешь... В войну, когда я первый раз убежал из Бухенвальда, то две недели пробирался на восток. Ночью двигался, а днем залегал где-нибудь в укромном месте, чтобы не быть обнаруженным. Однажды два дня провел на огромном поле, засеянном чесноком. Передвигаться было невозможно, а кушать, как понимаешь, хотелось. Вот и пришлось через силу одним чесноком питаться. До сих пор его терпеть не могу!..
8.
После Победы дед вернулся к семье, которая проживала всю войну в городе Ветлуга Нижегородской (тогда – Горьковской) области. Встретили его жена Екатерина и дочь Ариадна, моя будущая мама. Это именно к ним он обращался из далекого Веймара строками своей поэмы «Позёмка»:
Дорогая! Далекая! Милая!
Ни с каких не увидишь сторон,
Как влачу свою жизнь через силу я,
Отстреляв свой последний патрон.
Ты не слышишь, как дышит задавленно
Изнемогший в неволе барак.
На квартирах далеких оставлена
Довоенная наша пора.
Мне пришлось очерстветь и озлобиться,
Привыкая врага убивать.
Помоги не забыть твоего лица,
Человечности не растерять.
Дай мне вспомнить, как летом к заутрене
Поспешала спросонья река,
Самоцветами и перламутрами
Принималась небрежно сверкать.
Про леса мне напомни про давние,
Где в избушке у богатырей
Непоруганно дремлют сказания
Под загадочный крик журавлей.
Все затмило военной метелицей,
Тяжко жить, об утратах скорбя.
А любовь моя поровну делится –
На Отечество и на тебя.
Знать, земля не в ту сторону кружится,
А над ней бомбовозы гудят.
Пожелай мне великого мужества.
Снись почаще! Тоскует солдат...
Отдохнув, Константин Григорьевич занялся преподавательской деятельностью в местном техникуме. Преподавал математику, черчение и электротехнику. Одновременно получил прерванное войной высшее педагогическое образование.
9.
А когда Константин Григорьевич выправлял себе утерянные документы, вышел забавный казус, открывший некоторые подробности его младенчества.
В то время по традиции после крещения надо было выправлять метрику, то есть свидетельство о рождении, говоря современным языком. Перед этим родители собрали стол, позвали родственников и достаточно хорошо «посидели». Оформлять метрику вызвалась кума. Быстро собралась и ушла. Вернулась довольная: «Все хорошо, записала Костю!» Ее спросили, на какую фамилию записала-то? «Меня спросили фамилию, я назвала свою. Я же – Волкова!» Обругали куму дурой безмозглой, и уже кум отправился исправлять оплошность. Вернулся: «Ну вот, всё поправили». А на какую фамилию-то поправили? «Так я же – Ометов! На эту и поправили». Тут уж поднялся отец, Григорий Алексеевич, и лично, сам пошел. Выправили фамилию на Брендючкова.
И вот, по какой-то неизвестной причине неправильные записи в книге не удалили, оставили действующими. Служащий ЗАГС ошарашенно сообщил моему деду, что он может на вполне законных основаниях выбрать себе одну фамилию из трех: Ометов, Волков или Брендючков. Разумеется, дед выбрал фамилию своих родителей и стал Брендючковым.
10.
Но и литературная работа не отпускала. В эти годы Константин Григорьевич написал роман «Дважды рожденные», где подробно рассказал о событиях в Бухенвальде. Быт заключенных, филигранная и опасная деятельность подполья, подготовка восстания – всё это было отражено в романе, который вышел в свет в 1958 году. Однако работа над книгой продолжалась, и в 1961 году было выпущено второе издание – дополненное.
Немного погодя Константин Григорьевич Брендючков был принят в Союз писателей РСФСР.
Когда я работал над этими воспоминаниями, обнаружил интересную газетную вырезку того времени. Газета «Литература и жизнь» от 30.12.1962: «Секретариат правления Союза писателей РСФСР принял в члены союза новую группу литераторов. Среди них – автор повести «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицын. В союз приняты: Абдашев Ю. Н. (Краснодар), Белоногов А.Е. (Удмуртия)... Брендючков К. Г. (Ярославль)... Солженицын А. И. (Рязань)...» Хорошая компания!
А следующей книгой после «Дважды рожденных» была вторая – «Школьный выдумщик». Разумеется, про школу, про учителей, про их работу, их самоотдачу.
11.
В середине 60-х дед переехал в небольшой поселок Семибратово неподалеку от Ярославля. Там, на заводе газоочистительной аппаратуры он устроился инженером-конструктором. Затем работал в филиале научно-исследовательского института заведующим лабораторией. Именно в институте НИИОГАЗ проявилась инженерная и изобретательская жилка: только по специализации он получил более десяти авторских свидетельств на изобретения. А кроме того, посылал заявку на изобретение пишущей машинки для нот. Много лет работал над изобретением роторного двигателя и несколько раз даже посылал заявки. Как он уверял, два раза опаздывал на пару лет от аналогичных изобретений.
По литературной «прописке» он числился в Ярославском отделении Союза писателей СССР. Очень часто ездил на встречи с читателями, «на гастроли», как он говорил. Кроме всего прочего это был небольшой заработок, потому как с 1970 года дед уже был на пенсии.
А вот 11 апреля каждого года Константин Григорьевич надевал свой парадный пиджак с медалями и отправлялся в Москву. В одной из школ Москвы, в школе №1577 (ранее это была школа №752) находился музей «Бухенвальдский набат». По мере возможностей, там собирали встречи уцелевших узников это лагеря. И не только из СССР, но и из других стран. Приезжали даже немецкие узники-коммунисты. Константин Григорьевич называл это «встречами выпускников». Один раз и я был вместе с дедом на такой встрече, видел этих легендарных людей.
12.
Несмотря на то, что никаких репрессий к деду по поводу его плена не было никогда, сам он постоянно опасался последствий. «Да! Найдется какая-нибудь сволочь, узнает про плен, вот и обеспечат цугундер!» – не раз говорил он мне и добавлял: «Вот увидишь, и тебя это тоже коснется!»
Не коснулось.
Но как-то раз был случай... Вот как это описывал Константин Григорьевич.
«Однажды за мной всё-таки пришли! За дверью – двое:
– Вы Константин Григорьевич Брендючков?
Я отвечаю:
– Да.
– Вы должны проехать с нами!
– А собраться можно? – спрашиваю.
– Этого не требуется.
Вышли на улицу, там «воронок» стоит с водителем. Посадили меня вперед, сами сели на заднее сидение. Думаю: вот олухи, я же могу по дороге выпрыгнуть попытаться. Хоть шею свернуть, да не мучиться! Приехали в Ярославль, остановились перед воротами некого здания. Перед воротами – охрана. Ну что же, думаю, дело знакомое: тюрьма! Завели в здание, оставили в какой-то закрытой комнате: «Сейчас за вами придут! Подождите!» Приходит женщина: «Константин Григорьевич Брендючков? Следуйте за мной!» Следую. Коридор. Заходим в большое помещение. И тут вижу: зрительный зал, битком набитый людьми в форме, сцена, на сцене президиум сидит. Один из президиума встал и говорит: «А теперь давайте поприветствуем писателя Брендючкова! Он в свое время был заключённым в немецких тюрьмах и многое может рассказать о режимных особенностях этих заведений...»
– Ничего себе! И что дальше?
– Ну, что... отдышался, начал рассказывать. Должен сказать, беседа хорошая получилась, содержательная. Это, оказывается, был слет офицеров исправительных учреждений. Они много вопросов задавали. Правильные вопросы, по делу!
– Но слушай, ведь так инфаркт получить можно!
– А я потом с начальством той конторы побеседовал. Извинился полковник. А тем двоим бо-ольшой нагоняй был. Чтобы не шутили так.
13.
Оставшийся отрезок жизни деда всё равно был заполнен работой. Увлекся фантастикой и очень много читал. В местную библиотеку он ходил чаще, чем в продуктовый магазин. Завел тетрадь, где записывал прочитанные книги («Ты смотри, я ведь это уже читал пять лет назад!..») и ставил оценки – своего рода рейтинг. Написал и издал фантастическую повесть «Последний ангел». Кстати, даже сегодня, если погуглить, можно не только найти и скачать эту повесть, но и встретить несколько весьма положительных рецензий с подробным и умным разбором сюжета.
Работал над словарем рифм. Чуть ли не половина черновиков в архиве – это страницы рифмованных подборок. На вопрос: «Дед, а нафига это надо?», прищурившись, ехидно отвечал: «А ты назови рифму к слову «окунь»? А у меня есть!» Но здесь, к сожалению, компьютер переплюнул Константина Григорьевича. Сегодня в сети много сайтов для подбора рифм, хотя все они грешат неточностью.
Но любимое детище Константина Григорьевича всё-таки не дошло до официальной публикации. Десятки лет он работал над поэмой «Позёмка», посвященной подвигу бухенвальдцев. Частично отрывки были изданы в журналах, но полностью она увидела свет только в Самиздате. Были вручную отпечатаны и переплетены десяток экземпляров, которые разошлись по близким людям.
14.
Последний удар ждал Константина Григорьевича на излёте. Ушли из жизни самые близкие ему люди: сначала его жена, Екатерина Герасимовна, с которой он прожил более 60 лет, потом его дочь Ариадна. Однако он не остался в одиночестве. Он смог дождаться даже своих правнуков.
Видимо, сжалившись, испытав на этом человеке все ужасы, которые только можно придумать, судьба одумалась. Как ни жестоко это прозвучит, но она подарила Константину Григорьевичу Брендючкову быструю и безболезненную смерть. Как от пули. Как от пули, догнавшей его через полвека.
Он умер в декабре 1994 года легко и мгновенно.
Примерно за месяц до смерти он сказал мне, что хочет подтянуть свой немецкий язык. Набрал учебников в библиотеке, и долго по вечерам горела настольная лампа в его кабинете...
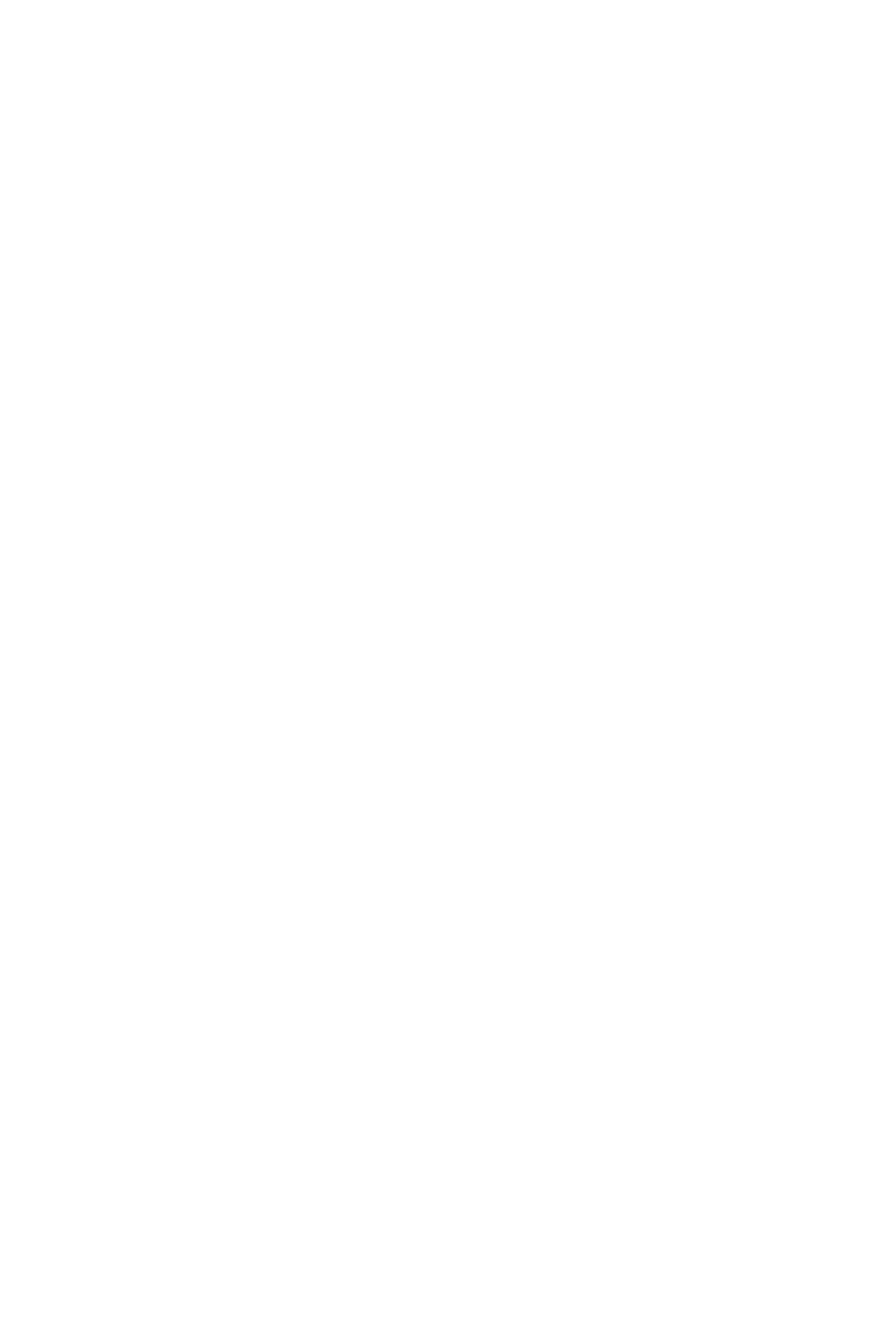
1915 год. Нижний Новгород
Брендючков Григорий Алексеевич, отец
Брендючкова Евдокия Петровна, мать
Брендючков Константин Григорьевич
Брендючков Григорий Алексеевич, отец
Брендючкова Евдокия Петровна, мать
Брендючков Константин Григорьевич
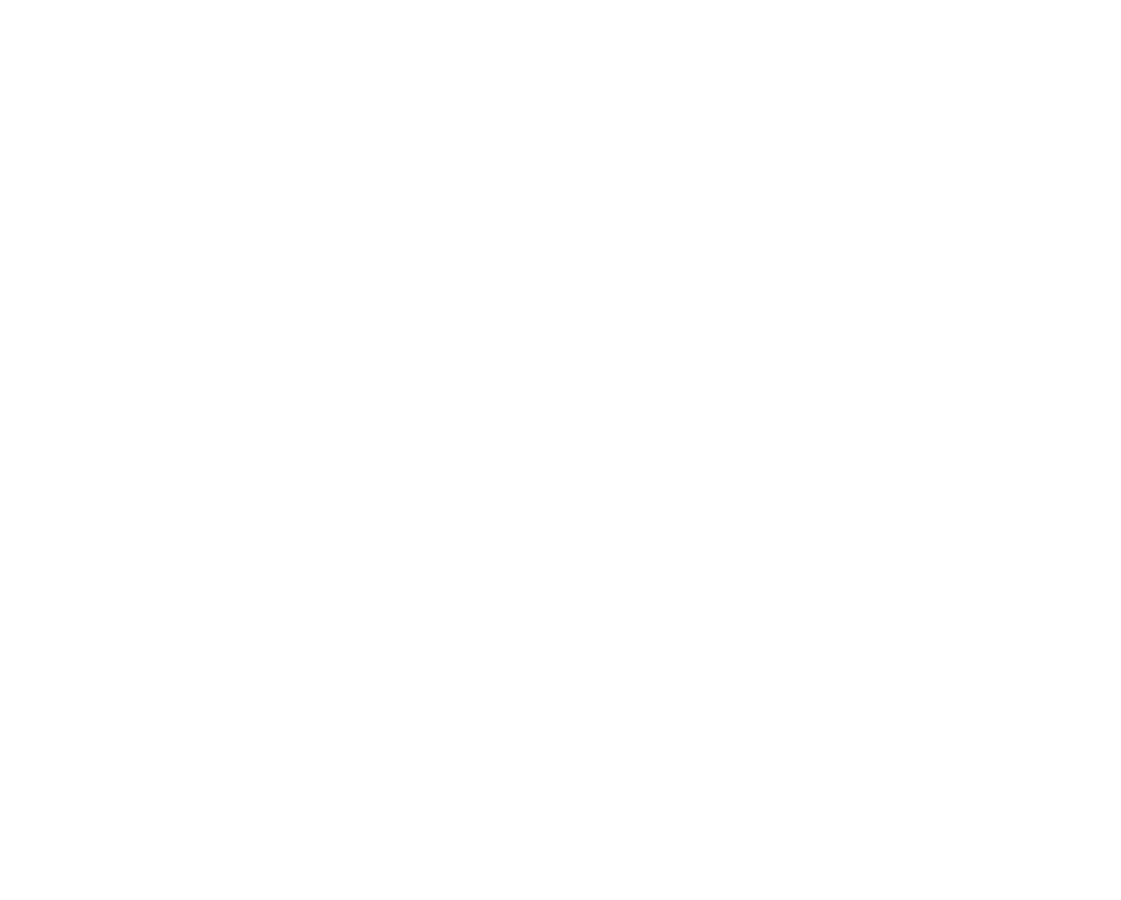
1982 год. Семибратово Ярославской обл.
Брендючков Константин Григорьевич
Брендючков Константин Григорьевич

Наталья СЕЛИВАНОВА
Родилась в г. Набережные Челны, пишет стихи с детства. В 2015 г. издан первый сборник стихов «Записки юной леди» (Москва). В 2021 г. издана вторая книга при поддержке Министерства культуры РФ «Мозаика моих дней» (Казань).
Диплом второй степени в международном фестивале-конкурсе «Прибалтийская весна», март 2022 г., дипломант международного конкурса «Manana», март 2022 г.,
дипломант конкурса «Отцовский след», май 2022 г., дипломант международного конкурса «Manana», июль 2022 г., лауреат третьей степени в международном фестивале-конкурсе «Прибалтийское лето», июль 2022 г. Неоднократно публиковалась в альманахе «Линии».
Родилась в г. Набережные Челны, пишет стихи с детства. В 2015 г. издан первый сборник стихов «Записки юной леди» (Москва). В 2021 г. издана вторая книга при поддержке Министерства культуры РФ «Мозаика моих дней» (Казань).
Диплом второй степени в международном фестивале-конкурсе «Прибалтийская весна», март 2022 г., дипломант международного конкурса «Manana», март 2022 г.,
дипломант конкурса «Отцовский след», май 2022 г., дипломант международного конкурса «Manana», июль 2022 г., лауреат третьей степени в международном фестивале-конкурсе «Прибалтийское лето», июль 2022 г. Неоднократно публиковалась в альманахе «Линии».
ВОСПОМИНАНИЯ
Я обещала моей бабушке, что она останется не только в моей памяти навек. Но и на страницах книги...
И сегодня я хочу поведать вам рассказы, которыми делилась моя бабушка – Харченко Валентина Владимировна (до замужества Минаева), ветеран тыла.
Когда началась война, ей было всего лишь 10 лет. И лишений в своей жизни она перенесла много...
«Война застала врасплох... Началась в сорок первом, мне – десять…
Есть тогда было нечего, ты знаешь... Кормились мы в полях... Ели, что придётся... Всё, что найдём... Или корни лопуха, или огурцы...
Бывало, нарвёшь в полях огурцов, наложишь в подол платья и – ешь и ешь, пока не станет плохо... Ведь голодные ходили... Голодное время было... Есть нечего.
Ох, мама у меня была красавица! Рукодельница! Да ещё и труженица!
Сама статная, а коса – до пояса!
Наших ребят, отца и братьев двух, забрали на фронт... В деревне мы с мамой остались одни...
Без помощи мужчин в деревне совсем худо было, справлялись кое-как, всё делали сами...
Я, как могла, помогала. Работала в полях – маленькая совсем, но уже понимала безысходность нашего положения...
Деревня Хо́ботово была расположена в пятнадцати километрах от боевых линий в Тамбовской области. Бои шли близко – ближе некуда... Вот, послушай, когда душа болит...»
Бабушка закрывает слепенькие глаза и как будто замирает.
«День и ночь летали в небе железные птицы, а ночью от взрывов бесконечно колотилось сердце... Небо разрывало не салютами, как сейчас, в современности, а прилётами вражьих бомб. В небе постоянно что-то взрывалось, и, кажется, что звук колыбельной песни не слышали дети тех времён... А слышали только гудение и рёв самолётов... Днём небо наполняли Мистер Шмидты – это немецкие самолёты, они так жёстко рокотали, мы различали их сразу.
Наш дом стоял около банка, и мама всегда боялась, что бомба прилетит прямо туда... скинут туда... И нас не будет, и нашего дома...
Деревня скоро стала покрываться военными отметинами – колодцами от бомбёжек... А я убегала, когда слышала, что летит-летит, гудит, ревёт, разрывая всё нутро...не оставляя живого места внутри...
Дети тех лет повзрослели быстро. В детстве не было ничего – только жуткий страх. В то время не было ничего и у людей, у поколения, росшего в годы Великой Отечественной. Во время войны была одна цель – выжить... Что бы то ни было – выжить! Как бы ни было – выжить! Мы исполняли всё, что нужно для нашей цели. Делали на все сто пятьдесят процентов. Детьми мы делали все работы в полях, помогали матерям, содержали скот, ухаживали за двором и домом.
Всё это было непосильной ношей для меня – худенькой десятилетней девочки. Но я говорила, что справлюсь! Что вынесу всё! Вынесу, вытерплю, выстою, выплачу, вымолю... Всё и всё выдержу...
А вот сейчас смотрю на тебя и радуюсь. Моя внученька такая красивая...»
А я разглядываю морщинки моей бабушки, вглядываюсь в глубь этих глаз и сама так ярко представляю описанные фрагменты – мне кажется, что я сама через бабушкины рассказы переносилась туда и вместе со всеми кричала: «Ура!», срывая голос, когда был решающий бой. Словно я сама видела тех пленных, которых вели после страшного боя. «Когда вся земля тряслась...»
«Пленный немец: «Млехо! Млехо!» Женщины побежали в дома за молоком, а командир: «Отставить! Они ваших сыновей и мужей убивали! А вы ещё жалеть их тут будете?! Нет и нет! И не будет им пощады!» Голос его ещё долго звучал в моих ушах... Касаясь каждого колодца от бомбёжек, обходя каждую рытвину и каждую отметину этой многострадальной земли».
«И нет предателям пощады ни тогда, ни сейчас!» – повторяю я слова моей бабушки.
Я обещала моей бабушке, что она останется не только в моей памяти навек. Но и на страницах книги...
И сегодня я хочу поведать вам рассказы, которыми делилась моя бабушка – Харченко Валентина Владимировна (до замужества Минаева), ветеран тыла.
Когда началась война, ей было всего лишь 10 лет. И лишений в своей жизни она перенесла много...
«Война застала врасплох... Началась в сорок первом, мне – десять…
Есть тогда было нечего, ты знаешь... Кормились мы в полях... Ели, что придётся... Всё, что найдём... Или корни лопуха, или огурцы...
Бывало, нарвёшь в полях огурцов, наложишь в подол платья и – ешь и ешь, пока не станет плохо... Ведь голодные ходили... Голодное время было... Есть нечего.
Ох, мама у меня была красавица! Рукодельница! Да ещё и труженица!
Сама статная, а коса – до пояса!
Наших ребят, отца и братьев двух, забрали на фронт... В деревне мы с мамой остались одни...
Без помощи мужчин в деревне совсем худо было, справлялись кое-как, всё делали сами...
Я, как могла, помогала. Работала в полях – маленькая совсем, но уже понимала безысходность нашего положения...
Деревня Хо́ботово была расположена в пятнадцати километрах от боевых линий в Тамбовской области. Бои шли близко – ближе некуда... Вот, послушай, когда душа болит...»
Бабушка закрывает слепенькие глаза и как будто замирает.
«День и ночь летали в небе железные птицы, а ночью от взрывов бесконечно колотилось сердце... Небо разрывало не салютами, как сейчас, в современности, а прилётами вражьих бомб. В небе постоянно что-то взрывалось, и, кажется, что звук колыбельной песни не слышали дети тех времён... А слышали только гудение и рёв самолётов... Днём небо наполняли Мистер Шмидты – это немецкие самолёты, они так жёстко рокотали, мы различали их сразу.
Наш дом стоял около банка, и мама всегда боялась, что бомба прилетит прямо туда... скинут туда... И нас не будет, и нашего дома...
Деревня скоро стала покрываться военными отметинами – колодцами от бомбёжек... А я убегала, когда слышала, что летит-летит, гудит, ревёт, разрывая всё нутро...не оставляя живого места внутри...
Дети тех лет повзрослели быстро. В детстве не было ничего – только жуткий страх. В то время не было ничего и у людей, у поколения, росшего в годы Великой Отечественной. Во время войны была одна цель – выжить... Что бы то ни было – выжить! Как бы ни было – выжить! Мы исполняли всё, что нужно для нашей цели. Делали на все сто пятьдесят процентов. Детьми мы делали все работы в полях, помогали матерям, содержали скот, ухаживали за двором и домом.
Всё это было непосильной ношей для меня – худенькой десятилетней девочки. Но я говорила, что справлюсь! Что вынесу всё! Вынесу, вытерплю, выстою, выплачу, вымолю... Всё и всё выдержу...
А вот сейчас смотрю на тебя и радуюсь. Моя внученька такая красивая...»
А я разглядываю морщинки моей бабушки, вглядываюсь в глубь этих глаз и сама так ярко представляю описанные фрагменты – мне кажется, что я сама через бабушкины рассказы переносилась туда и вместе со всеми кричала: «Ура!», срывая голос, когда был решающий бой. Словно я сама видела тех пленных, которых вели после страшного боя. «Когда вся земля тряслась...»
«Пленный немец: «Млехо! Млехо!» Женщины побежали в дома за молоком, а командир: «Отставить! Они ваших сыновей и мужей убивали! А вы ещё жалеть их тут будете?! Нет и нет! И не будет им пощады!» Голос его ещё долго звучал в моих ушах... Касаясь каждого колодца от бомбёжек, обходя каждую рытвину и каждую отметину этой многострадальной земли».
«И нет предателям пощады ни тогда, ни сейчас!» – повторяю я слова моей бабушки.

Николай ШОЛАСТЕР
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал недолго, вскоре начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году, освободившись от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить давно терзавший душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
Родился в 1955 году в г. Армавир. С 1960 года живет в подмосковной Коломне. В 1972 году окончил среднюю школу и поступил в педагогический институт, который окончил в 1976 году. Но учителем работал недолго, вскоре начал искать себя в других профессиях, что, наконец, в 1993 году привело к профессии монтера пути на железной дороге. Но на протяжении всей жизни, тяготея к творчеству, постоянно предпринимал попытки продвинуться в этом направлении. Играл на гитаре и сочинял музыку, конечно, не профессионально, но с завидным упорством.
В 2014 году, освободившись от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, решил удовлетворить давно терзавший душу творческий «зуд» и покусился на написание рассказов.
ПРИЗНАНИЕ
Напротив нашего дома – уже давно заброшенный одичавший сад. И хранит он в своих сказочных дебрях следы деятельности нескольких поколений нашего двора. Сколько было посажено деревьев, сколько спилено и сломано, два забора возведено когда-то было (один так и сломали). А уж деревянные столики со скамейками рождались и умирали каждые пару лет. Еще березка была, которую мой папа посадил.
Раньше все это текло мимо меня, как вода, безмолвно и бесцельно. И было наплевать на все, а тут вдруг заметил свою вовлеченность в этот круговорот жизни и смерти. Внимательно вглядываюсь, будто пытаюсь наизусть заучить все эти метаморфозы, как стихи. Вот завтра этого всего не станет, и надо, непременно надо успеть записать все на «карту памяти». И быстрее уже замелькали за окном времена года! Раньше сам их подгонял: «Скорей бы лето, зима, Новый год, день рождения, май!»
Нынче совсем другие мысли приходят: «Куда лечу? Зачем лечу?»
И уже совсем неинтересно, что там, впереди, будто наперед все знаю, а планы на будущее постепенно вытесняются воспоминаниями о прошлом. Неожиданно возникают какие-то странные мысли о покаянии. Раньше и слова-то такого не знал. Теперь, перелистывая свою жизнь вновь и вновь, нахожу немало того, в чем чувствую свою вину и за что стоило бы попросить прощения. Да, именно сейчас, пока хоть что-то еще могу сказать.
Одним из несправедливо недооцененных мною людей был мой папа. Он не отвечал моим представлениям о современном человеке. Как мне тогда казалось, он не был приспособлен к реальной жизни: слишком мягок и интеллигентен, старомоден и не силен физически. Он не владел никакими боевыми искусствами, не умел играть на гитаре и не смотрел загадочно в пространство, попыхивая сигаретой. Зато он был отличным математиком, но поскольку мне это было не нужно, я и не смог оценить это по достоинству. Папа победоносно играл в шахматы – не помню людей, его обыгравших. Пытался научить и меня, однако тут опять нестыковка вышла: я вовсе не любил просчитывать ходы, для меня это было мучительно скучно.
А сегодня, провожая грустным взглядом уходящую свою жизнь, четко понимаю, что всю ее «капризную» часть папа стоял за моей спиной и предостерегал от всех падений и неприятностей. Понимание стало ко мне приходить во время службы в армии. Я ведь так же не владел тогда боевыми искусствами, а тут вдруг не понравился какому-то старослужащему, и он решил научить меня любить Родину. «Разговор» не клеился, драться я не умел да и не хотел, и все его «зачетные» удары вяли, не находя должного сопротивления. Но и на колени я не падал, не плакал, не просил о пощаде, даже немного заскучал, ожидая, когда он устанет. Мне как раз пришло радостное известие из дома, что у меня родился сын, хотелось еще раз перечитать письмо и уснуть в надежде на добрые сны.
Ну… я все правильно рассчитал: не встретив ожидаемой реакции «обоих типов», он быстро потерял ко мне интерес и оставил в покое. И тут я вдруг вспомнил, как в далеком детстве спросил папу: «А почему у тебя зубиков нет?» – «Это мне на фронте осколками их повыбивало, сынок».
Так захотелось с ним поговорить! Нет, не о «Битлах», не о каратэ – просто посидеть рядом и послушать его голос. Когда моя служба закончилась, он уже умер, мы так и не поговорили…
Сегодня, когда меня спрашивают о его трудах по математике, о его биографии, мне становится очень стыдно: я совершенно ничего о нем не знаю, по крайней мере, до моего сознательного возраста. Не интересовался… Более того: разговоры о тригонометрических функциях вызывали устойчивую аллергическую реакцию, которая автоматически распространялась на любую другую информацию о папе. А он никогда не настаивал, терпеливо ждал, когда я наконец повзрослею.
Справедливости ради скажу, что некоторые факты из жизни папы тщательно уводились от моего сознания. Сначала я был маленьким, потом – слишком ветреным и бесшабашным «хиппарём», склонным к дерзости и эпатажу, поэтому некоторые вещи узнал лишь в зрелом возрасте, когда его уже не было в живых. Потом и мамы не стало…. И не у кого было больше что-то узнать о нем…
В биографии каждого из нас есть разные страницы: о некоторых приятно рассказать всем, но некоторые стараешься «перелистнуть», не читая. Не имея намерения пересказывать папину биографию, я хочу просто рассказать о нем, как о человеке и моем отношении к нему. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых событиях, его характеризующих, известных мне или рассказанных мамой, слегка уже забытых и не претендующих на документальную точность.
Даже дату рождения не могу точно сказать, по документам – 1908 год, но по маминым словам – 1910 год, а дату изменили, чтобы была возможность раньше пойти в школу, он был способным ребенком и после школы поступил в МГУ на механико-математический факультет. Был бедным студентом; мама рассказывала, что в теплое время на учебу он ходил босой и лишь перед университетом надевал туфли, дабы не сносить их преждевременно. И вот он закончил учебу, перед ним открылась дорога, залитая ярким солнечным светом, сулящая несчетное количество побед под бравурное звучанье фанфар. Однако эпоха была не та, чтобы без оглядки шагать туда, где свет. Надо было точно знать, кто светит и куда светит! И перед войной он был арестован за посещение какого-то кружка: то ли там не так уж все было патриотично и по-советски, то ли патриотизм исполнялся не с должным рвением. Большого срока не получилось, но биография была залита огромным черным пятном, и, как я думаю, именно тогда ему зубы «повыбивало осколками». Дальше была вой-на.
У него с детства в результате травмы не было большого пальца на правой руке, и держать оружие он нормально не мог. И все же он пошел добровольцем. Воевал в артиллерийской разведке наводчиком, там пригодились его математические знания, и он сумел доказать свою полезность для Родины, вопреки всем рассуждениям про «гнилую интеллигенцию» и другим всяким предубеждениям.
Вот такой документ я нашел в его бумагах – с ним он ходил, по словам мамы, в комитет госбезопасности, когда его вызывали для проверки и по вопросам, требующим разъяснений.
Войну он закончил с орденом Красной звезды и ранением, вновь стал преподавать математику. Сначала – в Ельце (кажется, с 1946 года), потом – в Армавире (по-моему, с 1954 по 1960 год). Тогда-то и появился я на свет – в феврале 1955 года, но мама с трудом переносила южный климат, пришлось искать место попрохладнее. Лучшим вариантом была бы Москва, мамин родной город, но папе туда не разрешено было; так мы появились в Коломне.
Сколько помню, я всегда был окружен родительской теплотой и заботой. Не сказать, что мы жили богато, но у меня всегда были самые интересные игрушки. Родители безумно любили меня и баловали; мама, правда, построже была, и порою доставалось мне от нее «на орехи». У папы строгость ко мне уступала место невероятному фантастическому терпению. У меня, как и у всех детей, наверно, появлялись временами «вредные» идеи. Вот влезла мне в голову дурацкая мысль, что я умею летать. Мы жили на третьем этаже в Армавире и я, придя с родителями домой, прямиком метнулся на балкон с явным намереньем прыгнуть и полететь. Как папа ухитрился меня поймать, и не знаю.
Со временем кубики, солдатики и машинки сменились фотоаппаратом и гитарой. Любые мои позитивные устремления тут же поддерживались и находили материальное воплощение. Но если с фотоаппаратом было достаточно просто, то хорошую гитару купить тогда у нас было крайне трудно. Даже простые советские «дрова» не лежали просто так в магазинах, а папа хотел купить хороший музыкальный инструмент! Это ведь было, пожалуй, мое единственное серьезное увлечение. Я тренькал уже вовсю на мало – музыкальных, походно-костровых «творениях» отечественного производства, а тут совершенно самостоятельно поступил в музыкальную школу (учась в институте), где, кстати, требовался нормальный музыкальный инструмент! И вот у меня появились чешская «Кремона», а потом – немецкая «Музима» с нейлоновыми струнами! «Музима» до сих пор еще жива и хорошо звучит для своих лет. В СССР такие гитары и струны не выпускались тогда и поэтому стоили очень дорого.
Потом были книги: «По ту сторону расцвета» и «Буржуазная массовая культура» А. В. Кукаркина, а также «Модели политического кино» С. И. Юткевича. Разумеется, их направленность была несколько негативно-обличительная: мол, посмотрите, до чего дошли эти проклятые капиталисты! Но пользовались они заслуженной популярностью, так как только в таком, негативном ключе и можно было узнать что-либо о рок-музыке, иноземных фильмах, книгах и западном искусстве вообще. Излишне напоминать, что тираж этих книг был весьма ограничен, надо было их успеть купить!
Вообще, к книгам у папы было особо трепетное отношение, у него даже дрожали руки, когда он держал в руках наиболее ценные, по его мнению, экземпляры! У нас до сих пор осталась большая библиотека, несмотря на попытки хоть немного ее сократить. Разумеется, не выбросить, а подарить часть книг кому-либо – новая жизнь требовала много места, старая теперь вмещалась в маленькую «флэшку». И все же один шкаф мы полностью оставили под книги; пусть говорят, что они заменяют обои, что их никто не читает. Это – память о папе! В основном это им купленные книги, а есть и написанные им.
При всей своей мягкости и внешней беззащитности, он был совершенно несгибаемый человек, который всегда добивался своей цели. И он безгранично любил меня и все, что со мной было связано. В свое время, опять же по легкомыслию, я ушел служить в армию, оставив молодую беременную жену на своих родителей. Когда она лежала в роддоме, он ежедневно посещал ее в любую погоду. Девчонки думали, это отец ребенка, сокрушались, какой старый и не верили, что это – свёкор! Когда у него родился внук, счастью его не было предела, очень жаль, продолжалось это недолго. И не было меня – того, кто должен был выполнять роль мужской опоры в семье. В который раз ему пришлось взвалить на себя мои обязанности.
Все, что я сейчас пишу, это мое признание его личности, ответ на его безграничную любовь и покаяние за то, что не сумел сделать раньше.
Светлая память ему!
Напротив нашего дома – уже давно заброшенный одичавший сад. И хранит он в своих сказочных дебрях следы деятельности нескольких поколений нашего двора. Сколько было посажено деревьев, сколько спилено и сломано, два забора возведено когда-то было (один так и сломали). А уж деревянные столики со скамейками рождались и умирали каждые пару лет. Еще березка была, которую мой папа посадил.
Раньше все это текло мимо меня, как вода, безмолвно и бесцельно. И было наплевать на все, а тут вдруг заметил свою вовлеченность в этот круговорот жизни и смерти. Внимательно вглядываюсь, будто пытаюсь наизусть заучить все эти метаморфозы, как стихи. Вот завтра этого всего не станет, и надо, непременно надо успеть записать все на «карту памяти». И быстрее уже замелькали за окном времена года! Раньше сам их подгонял: «Скорей бы лето, зима, Новый год, день рождения, май!»
Нынче совсем другие мысли приходят: «Куда лечу? Зачем лечу?»
И уже совсем неинтересно, что там, впереди, будто наперед все знаю, а планы на будущее постепенно вытесняются воспоминаниями о прошлом. Неожиданно возникают какие-то странные мысли о покаянии. Раньше и слова-то такого не знал. Теперь, перелистывая свою жизнь вновь и вновь, нахожу немало того, в чем чувствую свою вину и за что стоило бы попросить прощения. Да, именно сейчас, пока хоть что-то еще могу сказать.
Одним из несправедливо недооцененных мною людей был мой папа. Он не отвечал моим представлениям о современном человеке. Как мне тогда казалось, он не был приспособлен к реальной жизни: слишком мягок и интеллигентен, старомоден и не силен физически. Он не владел никакими боевыми искусствами, не умел играть на гитаре и не смотрел загадочно в пространство, попыхивая сигаретой. Зато он был отличным математиком, но поскольку мне это было не нужно, я и не смог оценить это по достоинству. Папа победоносно играл в шахматы – не помню людей, его обыгравших. Пытался научить и меня, однако тут опять нестыковка вышла: я вовсе не любил просчитывать ходы, для меня это было мучительно скучно.
А сегодня, провожая грустным взглядом уходящую свою жизнь, четко понимаю, что всю ее «капризную» часть папа стоял за моей спиной и предостерегал от всех падений и неприятностей. Понимание стало ко мне приходить во время службы в армии. Я ведь так же не владел тогда боевыми искусствами, а тут вдруг не понравился какому-то старослужащему, и он решил научить меня любить Родину. «Разговор» не клеился, драться я не умел да и не хотел, и все его «зачетные» удары вяли, не находя должного сопротивления. Но и на колени я не падал, не плакал, не просил о пощаде, даже немного заскучал, ожидая, когда он устанет. Мне как раз пришло радостное известие из дома, что у меня родился сын, хотелось еще раз перечитать письмо и уснуть в надежде на добрые сны.
Ну… я все правильно рассчитал: не встретив ожидаемой реакции «обоих типов», он быстро потерял ко мне интерес и оставил в покое. И тут я вдруг вспомнил, как в далеком детстве спросил папу: «А почему у тебя зубиков нет?» – «Это мне на фронте осколками их повыбивало, сынок».
Так захотелось с ним поговорить! Нет, не о «Битлах», не о каратэ – просто посидеть рядом и послушать его голос. Когда моя служба закончилась, он уже умер, мы так и не поговорили…
Сегодня, когда меня спрашивают о его трудах по математике, о его биографии, мне становится очень стыдно: я совершенно ничего о нем не знаю, по крайней мере, до моего сознательного возраста. Не интересовался… Более того: разговоры о тригонометрических функциях вызывали устойчивую аллергическую реакцию, которая автоматически распространялась на любую другую информацию о папе. А он никогда не настаивал, терпеливо ждал, когда я наконец повзрослею.
Справедливости ради скажу, что некоторые факты из жизни папы тщательно уводились от моего сознания. Сначала я был маленьким, потом – слишком ветреным и бесшабашным «хиппарём», склонным к дерзости и эпатажу, поэтому некоторые вещи узнал лишь в зрелом возрасте, когда его уже не было в живых. Потом и мамы не стало…. И не у кого было больше что-то узнать о нем…
В биографии каждого из нас есть разные страницы: о некоторых приятно рассказать всем, но некоторые стараешься «перелистнуть», не читая. Не имея намерения пересказывать папину биографию, я хочу просто рассказать о нем, как о человеке и моем отношении к нему. Поэтому остановлюсь лишь на некоторых событиях, его характеризующих, известных мне или рассказанных мамой, слегка уже забытых и не претендующих на документальную точность.
Даже дату рождения не могу точно сказать, по документам – 1908 год, но по маминым словам – 1910 год, а дату изменили, чтобы была возможность раньше пойти в школу, он был способным ребенком и после школы поступил в МГУ на механико-математический факультет. Был бедным студентом; мама рассказывала, что в теплое время на учебу он ходил босой и лишь перед университетом надевал туфли, дабы не сносить их преждевременно. И вот он закончил учебу, перед ним открылась дорога, залитая ярким солнечным светом, сулящая несчетное количество побед под бравурное звучанье фанфар. Однако эпоха была не та, чтобы без оглядки шагать туда, где свет. Надо было точно знать, кто светит и куда светит! И перед войной он был арестован за посещение какого-то кружка: то ли там не так уж все было патриотично и по-советски, то ли патриотизм исполнялся не с должным рвением. Большого срока не получилось, но биография была залита огромным черным пятном, и, как я думаю, именно тогда ему зубы «повыбивало осколками». Дальше была вой-на.
У него с детства в результате травмы не было большого пальца на правой руке, и держать оружие он нормально не мог. И все же он пошел добровольцем. Воевал в артиллерийской разведке наводчиком, там пригодились его математические знания, и он сумел доказать свою полезность для Родины, вопреки всем рассуждениям про «гнилую интеллигенцию» и другим всяким предубеждениям.
Вот такой документ я нашел в его бумагах – с ним он ходил, по словам мамы, в комитет госбезопасности, когда его вызывали для проверки и по вопросам, требующим разъяснений.
Войну он закончил с орденом Красной звезды и ранением, вновь стал преподавать математику. Сначала – в Ельце (кажется, с 1946 года), потом – в Армавире (по-моему, с 1954 по 1960 год). Тогда-то и появился я на свет – в феврале 1955 года, но мама с трудом переносила южный климат, пришлось искать место попрохладнее. Лучшим вариантом была бы Москва, мамин родной город, но папе туда не разрешено было; так мы появились в Коломне.
Сколько помню, я всегда был окружен родительской теплотой и заботой. Не сказать, что мы жили богато, но у меня всегда были самые интересные игрушки. Родители безумно любили меня и баловали; мама, правда, построже была, и порою доставалось мне от нее «на орехи». У папы строгость ко мне уступала место невероятному фантастическому терпению. У меня, как и у всех детей, наверно, появлялись временами «вредные» идеи. Вот влезла мне в голову дурацкая мысль, что я умею летать. Мы жили на третьем этаже в Армавире и я, придя с родителями домой, прямиком метнулся на балкон с явным намереньем прыгнуть и полететь. Как папа ухитрился меня поймать, и не знаю.
Со временем кубики, солдатики и машинки сменились фотоаппаратом и гитарой. Любые мои позитивные устремления тут же поддерживались и находили материальное воплощение. Но если с фотоаппаратом было достаточно просто, то хорошую гитару купить тогда у нас было крайне трудно. Даже простые советские «дрова» не лежали просто так в магазинах, а папа хотел купить хороший музыкальный инструмент! Это ведь было, пожалуй, мое единственное серьезное увлечение. Я тренькал уже вовсю на мало – музыкальных, походно-костровых «творениях» отечественного производства, а тут совершенно самостоятельно поступил в музыкальную школу (учась в институте), где, кстати, требовался нормальный музыкальный инструмент! И вот у меня появились чешская «Кремона», а потом – немецкая «Музима» с нейлоновыми струнами! «Музима» до сих пор еще жива и хорошо звучит для своих лет. В СССР такие гитары и струны не выпускались тогда и поэтому стоили очень дорого.
Потом были книги: «По ту сторону расцвета» и «Буржуазная массовая культура» А. В. Кукаркина, а также «Модели политического кино» С. И. Юткевича. Разумеется, их направленность была несколько негативно-обличительная: мол, посмотрите, до чего дошли эти проклятые капиталисты! Но пользовались они заслуженной популярностью, так как только в таком, негативном ключе и можно было узнать что-либо о рок-музыке, иноземных фильмах, книгах и западном искусстве вообще. Излишне напоминать, что тираж этих книг был весьма ограничен, надо было их успеть купить!
Вообще, к книгам у папы было особо трепетное отношение, у него даже дрожали руки, когда он держал в руках наиболее ценные, по его мнению, экземпляры! У нас до сих пор осталась большая библиотека, несмотря на попытки хоть немного ее сократить. Разумеется, не выбросить, а подарить часть книг кому-либо – новая жизнь требовала много места, старая теперь вмещалась в маленькую «флэшку». И все же один шкаф мы полностью оставили под книги; пусть говорят, что они заменяют обои, что их никто не читает. Это – память о папе! В основном это им купленные книги, а есть и написанные им.
При всей своей мягкости и внешней беззащитности, он был совершенно несгибаемый человек, который всегда добивался своей цели. И он безгранично любил меня и все, что со мной было связано. В свое время, опять же по легкомыслию, я ушел служить в армию, оставив молодую беременную жену на своих родителей. Когда она лежала в роддоме, он ежедневно посещал ее в любую погоду. Девчонки думали, это отец ребенка, сокрушались, какой старый и не верили, что это – свёкор! Когда у него родился внук, счастью его не было предела, очень жаль, продолжалось это недолго. И не было меня – того, кто должен был выполнять роль мужской опоры в семье. В который раз ему пришлось взвалить на себя мои обязанности.
Все, что я сейчас пишу, это мое признание его личности, ответ на его безграничную любовь и покаяние за то, что не сумел сделать раньше.
Светлая память ему!

Андрей СТРОКОВ
Родился в Казахстане в 1967 г. Родители – металлурги. Образование – высшее техническое и высшее экономическое. Служил на флоте. Работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Публиковался в альманахах издательства «Новое слово», в журнале «Парус», в газетах «Электросталь», «Курская руда», «Рабочая трибуна а также в Интернете. Автор Дзен-канала «Не только морские рассказы». Проводит мастер-классы и семинары со студентами вузов Пятигорска и Ессентуков. Среди увлечений – гольф, байкинг. Живет в Кисловодске. В издательстве «Новое слово» вышел бумажный сборник «Не только морские рассказы» (см. анонс книги на стр. 86). Рассказ «Гагарин» – совершенно новый, в книгу не вошел, но, близкий по стилю и духу этому сборнику, может стать отличным его продолжением или приглашением приобрести на сайте издательства.
Родился в Казахстане в 1967 г. Родители – металлурги. Образование – высшее техническое и высшее экономическое. Служил на флоте. Работал на руководящих должностях в кабельной промышленности. Публиковался в альманахах издательства «Новое слово», в журнале «Парус», в газетах «Электросталь», «Курская руда», «Рабочая трибуна а также в Интернете. Автор Дзен-канала «Не только морские рассказы». Проводит мастер-классы и семинары со студентами вузов Пятигорска и Ессентуков. Среди увлечений – гольф, байкинг. Живет в Кисловодске. В издательстве «Новое слово» вышел бумажный сборник «Не только морские рассказы» (см. анонс книги на стр. 86). Рассказ «Гагарин» – совершенно новый, в книгу не вошел, но, близкий по стилю и духу этому сборнику, может стать отличным его продолжением или приглашением приобрести на сайте издательства.
ГАГАРИН
В правлении колхоза накурено так, что хоть сапог вешай. Невероятный гвалт и шум: председатель отчитывает счетовода за свинорой в отчётах, парторг пытается что-то донести до райкома, вопя в трубку, словно в рупор, бригадиры спорят каждый о своём… Обычная рабочая обстановка. А фоном ко всему идёт бубнёж из репродуктора о высоких надоях, рекордной плавке, протестах пролетариата в странах империализма, перемежаемый сигналами точного времени и народной либо классической музыкой.
Назарыч по своим надобностям ненадолго заскочил в правление, сунул председателю бумажки, поскорее выскочив на крыльцо. Тяжёлый махорочный дух был ему противопоказан категорически, через это дело он и курить бросил.
Назарыч был колхозным ветеринаром. На фронте почти два года воевал при лошадках, а в сорок третьем из-под Курска был комиссован подчистую: один осколок застрял в лёгком, другой – под сердцем, а ещё горсть крупповского железа усталый хирург достал из спины вживую, даже не налив солдату для порядка и полстакана спирта.
В правлении колхоза накурено так, что хоть сапог вешай. Невероятный гвалт и шум: председатель отчитывает счетовода за свинорой в отчётах, парторг пытается что-то донести до райкома, вопя в трубку, словно в рупор, бригадиры спорят каждый о своём… Обычная рабочая обстановка. А фоном ко всему идёт бубнёж из репродуктора о высоких надоях, рекордной плавке, протестах пролетариата в странах империализма, перемежаемый сигналами точного времени и народной либо классической музыкой.
Назарыч по своим надобностям ненадолго заскочил в правление, сунул председателю бумажки, поскорее выскочив на крыльцо. Тяжёлый махорочный дух был ему противопоказан категорически, через это дело он и курить бросил.
Назарыч был колхозным ветеринаром. На фронте почти два года воевал при лошадках, а в сорок третьем из-под Курска был комиссован подчистую: один осколок застрял в лёгком, другой – под сердцем, а ещё горсть крупповского железа усталый хирург достал из спины вживую, даже не налив солдату для порядка и полстакана спирта.
Предлагаем вашему вниманию книгу Андрея СТРОКОВА «Не только морские рассказы»
В книге собраны увлекательные, полные необыкновенных чудес и удивительных фактов рассказы о флоте, о жизни, о войне и мире, о дружбе и любви. Автор рассказов – Андрей Строков, человек, повидавший много стран и континентов, и пропустивший увиденное через свою душу, ярко и красочно сумел изобразить всё это на бумаге.
«Подробности о флоте и флотских читала хотя медленно, но охотно и взахлёб! Как приключенческое в детстве от Жюля Верна. И, пожалуй, именно эта часть книги, про флот, произвела наибольшее впечатление. Ре-аль-ным описанием событий! Удивительный язык, простота повествования, честность.»
Писательница, член Союза журналистов Т.К. Ливанова
«Вторая, уже не морская, часть книги, тоже и тронула, и заставила задуматься, и всколыхнула волну добрых и даже патриотических чувств.»
Капитан 2 ранга запаса В.В. Шлапак
Книгу вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по ссылке
В книге собраны увлекательные, полные необыкновенных чудес и удивительных фактов рассказы о флоте, о жизни, о войне и мире, о дружбе и любви. Автор рассказов – Андрей Строков, человек, повидавший много стран и континентов, и пропустивший увиденное через свою душу, ярко и красочно сумел изобразить всё это на бумаге.
«Подробности о флоте и флотских читала хотя медленно, но охотно и взахлёб! Как приключенческое в детстве от Жюля Верна. И, пожалуй, именно эта часть книги, про флот, произвела наибольшее впечатление. Ре-аль-ным описанием событий! Удивительный язык, простота повествования, честность.»
Писательница, член Союза журналистов Т.К. Ливанова
«Вторая, уже не морская, часть книги, тоже и тронула, и заставила задуматься, и всколыхнула волну добрых и даже патриотических чувств.»
Капитан 2 ранга запаса В.В. Шлапак
Книгу вы можете приобрести в нашем интернет-магазине по ссылке

Апрель в Томской области – месяц паршивый. Вроде бы и завеснело, но снег всё ещё лежит тяжёлыми мокрыми глыбами по низинкам, почти постоянно – ветер и хмарь, с неба падают мелкие капли вперемешку со снежинками, по ночам хрустит по лывам наледь, а днём повсюду грязища непролазная: ногу поднимешь, а сапог остаётся.
Зима прошла туго. Первый секретарь райкома принудил вместо кормов засеять пшеницу – остались и без пшеницы, и без кормов. В наших сибирских краях пшеница родит через пень колоду: то в засуху высохнет, то в мокрядь на корню погниёт, а то озимь побьёт морозами. Иное дело – рожь! Всегда с урожаем будешь. Известное дело: лучше быть с двумя караваями чернушки, нежели совсем без белой булки. Но областное начальство спустило план именно по пшенице, как ни упирались колхозники. Начальству виднее.
Или вот корма эти. Остались без них, а значит, племенное стадо – под нож. В итоге на этот раз район план по мясосдаче перевыполнил, а что будет после… Гори синим пламенем. Но первому секретарю – орден на пиджак.
Клин под пары всегда оставляли до четверти пашни, а в этом году указание: всё засеять; план по хлебосдаче утроили. Ну, засеем нынче, семена найдутся, а на будущий год да без отдыха земля не уродит вовсе! Как раз об этом и спорили бригадиры до хрипоты. Да кто их услышит? Господи, ну когда жить-то нормально начнём?
Невесёлые размышления ветеринара прервал всадник, во весь опор, поднимая султаны жидкой грязи, летящий вдоль по улице. Во всаднике (точнее – всаднице) опознал Назарыч Анютку – девчонку шестнадцати лет, фельдшерскую дочку. Без седла, управляясь острыми коленками, каблуками кирзачей да уздою, лихо осадила чалого меринка у крыльца правления, всполошив стайку важных гусей. Платок сбился на шею, две пшеничные, собранные в пучки косы подрастрепались, телогрейка распахнута на манер чапаевской бурки, глазищи горят, конопушки, что по весне поселялись на носу, разбежались по щекам. Никак, беда!
Мать её, Раиса, до войны замуж выйти не успела – мобилизовали как медработника. А в конце сорок четвёртого вернулась с двумя медалями и с «икрой», в положенный срок родила вот такое белобрысое чудо. Анютка выросла крепкой, смышлёной, а самое главное – душою чуяла всякую птицу и скотину, особенно лошадей, всё время пропадала на конюшне. Через это качество видел в ней ветеринар замену себе, поэтому был с девушкой особенно строг.
– Иван Назарыч, насилу вас отыскала! Там Розочка никак разродиться не может!
– И давно началось?
– Да третий час пошёл…
– Как – третий?! Да вы там с Нахимычем совсем с ума посходили? Где раньше тебя чёрт носил? Загубите мне животину, кулёмы!
– Мы думали, сами справимся, а потом – сюрприз всем …
Деду Нахимычу было под восемьдесят: крепкий, жилистый, состоял при конюшне сторожем, а раньше, сколько помнили, – конюхом. Служил он в Японскую на броненосце «Нахимов», участвовал в Цусимском сражении, о чём любил поминать при каждом удобном случае. За это и получил от сельчан своё прозвище и этим ужасно гордился. А всамделешное имя его народ и позабыл по давности лет.
Не дожидаясь дальнейшего разноса, всадница умчалась восвояси, а Назарыч в сердцах стал давить ногой рычаг стартера мотоцикла. Всем известно: доля ветеринара – быть на ногах двадцать пять часов в сутки, поспеть надо и в поле, и на выпас, и в коровник, и на птичник… или как сейчас – в конюшню. Да и сельчане живность держат в изрядном количестве, только поспевай пользовать. Вот и отжалел председатель почти новый мотоцикл К-750 с коляской, о двадцати шести лошадиных силах. Может, от щедрот своих отжалел, а может, потому что пришёл с фронта одноруким: двуколкой управлять ещё можно, а вот мотоциклом – уже несподручно. Но Назарычу – то, что доктор прописал: и успеешь везде, и в люльке укладка всегда готовая с инструментом да запасной одеждой, угваздаться при такой работе – первейшее дело.
Розочка – молодая, крепкая гнедая кобыла – лежит в деннике: бока раздуваются от тяжёлого дыхания, глаза затуманенные, из сил выбилась окончательно. «Хоть подстилку свежую постелили, в денник не самый щелястый определили да хвост подвязали – и на том спасибо, коневоды непутёвые», – ворчливо размышлял Иван, пока осматривал роженицу.
– Так, девка, тащи воду тёплую да попону какую-нето, на пол кинуть.
– Уже! – Анютка стояла с тазиком, парящим кувшином и утиральником. – Ой, дядя Иван, что это у вас?
– Да не пялься! – ветеринар быстро разделся до пояса, а на спине – живого места не видно. – Читала у Твардовского?
Фронтовик с явным удовольствием процитировал:
И противник по болоту,
По траншейкам торфяным
Садит вновь из миномётов –
Что ты хочешь, делай с ним.
Адреса разведал точно,
Шлёт посылки спешной почтой,
И лежишь ты, адресат,
Изнывая, ждёшь за кочкой,
Скоро ль мина влепит в зад.
– Вот так примерно и было. Всё, хватит поливать.
Назарыч лёг на бок промеж задних лошадиных ног (эх, не застудиться бы!) и руку до самого плеча просунул внутрь.
– Так и думал. Жеребёнок живой, но лежит поперёк, да ещё шея подогнута. Будем разворачивать и шею разгибать; шанс спасти – малый, но пока есть. Ремнями фиксируйте ноги здесь и здесь, голову – здесь; растягивайте, аккуратно только.
И пошла работа. Дед Нахимыч фиксирует ноги, Анютка обняла кобылу за голову и что-то шепчет ей на ушко, понятное только им двоим – ну, чисто ведьма. Розочка, умница, слушается девку, не брыкается, тужится, когда надо, откуда только силы взялись. Упрели, возились незнамо сколько, да кто там на часы смотреть будет?
И вот уже показался белый плодный пузырь, а в нём – мордочка и передние копыта, как положено, впереди головы. Скоренько надорвали пальцами оболочку, очистили ноздри, рот, ушки жеребёнка от слизи. Ещё немного, и вот саврасый жеребчик лежит на подстилке, пытаясь поднять голову. И как по команде тучки поразъехались, с небес ударил весёлый и долгожданный солнечный луч.
– Так, ребятки, ну и молодцы мы все! Сымайте ремни, кобыла сама пуповину перегрызёт, малыша вылижет, им отдохнуть надо. Эй, а чего это там за шум?
– Анютка, дед Нахимыч, где вы есть? – послышался голос, и на пороге денника возник Федька – племяш, по совместительству – Анюткин лучший друг и тайный воздыхатель.
– Здрасте, дед Нахимыч, здрасте, дядька Иван, привет, Анютка! Там… там!..
– А ну, кончай барагозить! Вишь, у нас дело какое, напужаешь почём зря, баламут! – замахал на него руками сторож.
– Ой, простите… Там… Гагарин! – парень всё никак не мог совладать с дыхалкой – видать, нёсся, не чуя ног, даже шлёпнулся где-то по дороге коленками в грязь.
– Какой такой Гагарин? Не знаем. Начальство новое с области али артист народный приблудился? – продолжил старик.
– Юрий Гагарин, – Федька справился с голосом. – Майор, на корабле-спутнике «Восток» стартовал в космос, облетел Землю вокруг и приземлился в заданном районе! Первый человек в космосе – наш советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин! По радио Москва передала.
– Ну и дела! А ведь я говорил, не зря говорил, когда собачек туда отправили: этим дело не закончится! Вот, помню, служил на броненосце «Нахимов» в одна тысяча девятьсот пятом году…
– Да погоди ты, дед, – прервал его Назарыч. – Ты подумай, счастье-то по всей стране какое! Всему миру показали силу советской власти!.. Федь, глянь: и у нас тоже космонавт есть! Вот и кличка готовая для жеребчика. Анютка, как думаешь?
Счастливая девушка от всей души чмокнула Космонавта в мокрый нос.
– Анютка, айда в клуб, там народ собирается на митинг. Дядь Иван, можно?
– Да бегите, бегите, мы тут без вас управимся…
«Эх, хороший парнишка… В мае – в армию, а как вернётся – поженим», – подумалось Ивану.
– Гагарин, значит. Юрий, – размышлял дед Нахимыч, споро прибираясь в деннике. – Я вот как думаю, Назарыч: сейчас, почитай, каждого мальчонку, что народится, Юрой окрестят. Во скока будет теперича космонавтов! Ты спрашивал третьего дня, когда жить-то начнём нормально. А вот они и начнут…
Дед кивнул вслед убегающей молодёжи.
– На Марс полетят всенепременно, помяни моё слово. Вот мы, когда на броненосце «Нахимов» с япошками воевали, могли ли помыслить про эдакое?..
Послеполуденное весеннее солнце припекало всё сильнее. Новорождённый Космонавт уже научился держать голову и пытался встать на пока ещё слабые ножки. Дед Нахимыч, закончив уборку и пошарив под стрехой, извлёк початую бутылку зелёного стекла, заткнутую свёрнутой в трубочку газеткой.
– Ну что, Иван, давай – за Гагарина?
– Давай, старик, за Гагарина! И за космонавтов, чтоб их побольше у нас нарождалось!..
Зима прошла туго. Первый секретарь райкома принудил вместо кормов засеять пшеницу – остались и без пшеницы, и без кормов. В наших сибирских краях пшеница родит через пень колоду: то в засуху высохнет, то в мокрядь на корню погниёт, а то озимь побьёт морозами. Иное дело – рожь! Всегда с урожаем будешь. Известное дело: лучше быть с двумя караваями чернушки, нежели совсем без белой булки. Но областное начальство спустило план именно по пшенице, как ни упирались колхозники. Начальству виднее.
Или вот корма эти. Остались без них, а значит, племенное стадо – под нож. В итоге на этот раз район план по мясосдаче перевыполнил, а что будет после… Гори синим пламенем. Но первому секретарю – орден на пиджак.
Клин под пары всегда оставляли до четверти пашни, а в этом году указание: всё засеять; план по хлебосдаче утроили. Ну, засеем нынче, семена найдутся, а на будущий год да без отдыха земля не уродит вовсе! Как раз об этом и спорили бригадиры до хрипоты. Да кто их услышит? Господи, ну когда жить-то нормально начнём?
Невесёлые размышления ветеринара прервал всадник, во весь опор, поднимая султаны жидкой грязи, летящий вдоль по улице. Во всаднике (точнее – всаднице) опознал Назарыч Анютку – девчонку шестнадцати лет, фельдшерскую дочку. Без седла, управляясь острыми коленками, каблуками кирзачей да уздою, лихо осадила чалого меринка у крыльца правления, всполошив стайку важных гусей. Платок сбился на шею, две пшеничные, собранные в пучки косы подрастрепались, телогрейка распахнута на манер чапаевской бурки, глазищи горят, конопушки, что по весне поселялись на носу, разбежались по щекам. Никак, беда!
Мать её, Раиса, до войны замуж выйти не успела – мобилизовали как медработника. А в конце сорок четвёртого вернулась с двумя медалями и с «икрой», в положенный срок родила вот такое белобрысое чудо. Анютка выросла крепкой, смышлёной, а самое главное – душою чуяла всякую птицу и скотину, особенно лошадей, всё время пропадала на конюшне. Через это качество видел в ней ветеринар замену себе, поэтому был с девушкой особенно строг.
– Иван Назарыч, насилу вас отыскала! Там Розочка никак разродиться не может!
– И давно началось?
– Да третий час пошёл…
– Как – третий?! Да вы там с Нахимычем совсем с ума посходили? Где раньше тебя чёрт носил? Загубите мне животину, кулёмы!
– Мы думали, сами справимся, а потом – сюрприз всем …
Деду Нахимычу было под восемьдесят: крепкий, жилистый, состоял при конюшне сторожем, а раньше, сколько помнили, – конюхом. Служил он в Японскую на броненосце «Нахимов», участвовал в Цусимском сражении, о чём любил поминать при каждом удобном случае. За это и получил от сельчан своё прозвище и этим ужасно гордился. А всамделешное имя его народ и позабыл по давности лет.
Не дожидаясь дальнейшего разноса, всадница умчалась восвояси, а Назарыч в сердцах стал давить ногой рычаг стартера мотоцикла. Всем известно: доля ветеринара – быть на ногах двадцать пять часов в сутки, поспеть надо и в поле, и на выпас, и в коровник, и на птичник… или как сейчас – в конюшню. Да и сельчане живность держат в изрядном количестве, только поспевай пользовать. Вот и отжалел председатель почти новый мотоцикл К-750 с коляской, о двадцати шести лошадиных силах. Может, от щедрот своих отжалел, а может, потому что пришёл с фронта одноруким: двуколкой управлять ещё можно, а вот мотоциклом – уже несподручно. Но Назарычу – то, что доктор прописал: и успеешь везде, и в люльке укладка всегда готовая с инструментом да запасной одеждой, угваздаться при такой работе – первейшее дело.
Розочка – молодая, крепкая гнедая кобыла – лежит в деннике: бока раздуваются от тяжёлого дыхания, глаза затуманенные, из сил выбилась окончательно. «Хоть подстилку свежую постелили, в денник не самый щелястый определили да хвост подвязали – и на том спасибо, коневоды непутёвые», – ворчливо размышлял Иван, пока осматривал роженицу.
– Так, девка, тащи воду тёплую да попону какую-нето, на пол кинуть.
– Уже! – Анютка стояла с тазиком, парящим кувшином и утиральником. – Ой, дядя Иван, что это у вас?
– Да не пялься! – ветеринар быстро разделся до пояса, а на спине – живого места не видно. – Читала у Твардовского?
Фронтовик с явным удовольствием процитировал:
И противник по болоту,
По траншейкам торфяным
Садит вновь из миномётов –
Что ты хочешь, делай с ним.
Адреса разведал точно,
Шлёт посылки спешной почтой,
И лежишь ты, адресат,
Изнывая, ждёшь за кочкой,
Скоро ль мина влепит в зад.
– Вот так примерно и было. Всё, хватит поливать.
Назарыч лёг на бок промеж задних лошадиных ног (эх, не застудиться бы!) и руку до самого плеча просунул внутрь.
– Так и думал. Жеребёнок живой, но лежит поперёк, да ещё шея подогнута. Будем разворачивать и шею разгибать; шанс спасти – малый, но пока есть. Ремнями фиксируйте ноги здесь и здесь, голову – здесь; растягивайте, аккуратно только.
И пошла работа. Дед Нахимыч фиксирует ноги, Анютка обняла кобылу за голову и что-то шепчет ей на ушко, понятное только им двоим – ну, чисто ведьма. Розочка, умница, слушается девку, не брыкается, тужится, когда надо, откуда только силы взялись. Упрели, возились незнамо сколько, да кто там на часы смотреть будет?
И вот уже показался белый плодный пузырь, а в нём – мордочка и передние копыта, как положено, впереди головы. Скоренько надорвали пальцами оболочку, очистили ноздри, рот, ушки жеребёнка от слизи. Ещё немного, и вот саврасый жеребчик лежит на подстилке, пытаясь поднять голову. И как по команде тучки поразъехались, с небес ударил весёлый и долгожданный солнечный луч.
– Так, ребятки, ну и молодцы мы все! Сымайте ремни, кобыла сама пуповину перегрызёт, малыша вылижет, им отдохнуть надо. Эй, а чего это там за шум?
– Анютка, дед Нахимыч, где вы есть? – послышался голос, и на пороге денника возник Федька – племяш, по совместительству – Анюткин лучший друг и тайный воздыхатель.
– Здрасте, дед Нахимыч, здрасте, дядька Иван, привет, Анютка! Там… там!..
– А ну, кончай барагозить! Вишь, у нас дело какое, напужаешь почём зря, баламут! – замахал на него руками сторож.
– Ой, простите… Там… Гагарин! – парень всё никак не мог совладать с дыхалкой – видать, нёсся, не чуя ног, даже шлёпнулся где-то по дороге коленками в грязь.
– Какой такой Гагарин? Не знаем. Начальство новое с области али артист народный приблудился? – продолжил старик.
– Юрий Гагарин, – Федька справился с голосом. – Майор, на корабле-спутнике «Восток» стартовал в космос, облетел Землю вокруг и приземлился в заданном районе! Первый человек в космосе – наш советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин! По радио Москва передала.
– Ну и дела! А ведь я говорил, не зря говорил, когда собачек туда отправили: этим дело не закончится! Вот, помню, служил на броненосце «Нахимов» в одна тысяча девятьсот пятом году…
– Да погоди ты, дед, – прервал его Назарыч. – Ты подумай, счастье-то по всей стране какое! Всему миру показали силу советской власти!.. Федь, глянь: и у нас тоже космонавт есть! Вот и кличка готовая для жеребчика. Анютка, как думаешь?
Счастливая девушка от всей души чмокнула Космонавта в мокрый нос.
– Анютка, айда в клуб, там народ собирается на митинг. Дядь Иван, можно?
– Да бегите, бегите, мы тут без вас управимся…
«Эх, хороший парнишка… В мае – в армию, а как вернётся – поженим», – подумалось Ивану.
– Гагарин, значит. Юрий, – размышлял дед Нахимыч, споро прибираясь в деннике. – Я вот как думаю, Назарыч: сейчас, почитай, каждого мальчонку, что народится, Юрой окрестят. Во скока будет теперича космонавтов! Ты спрашивал третьего дня, когда жить-то начнём нормально. А вот они и начнут…
Дед кивнул вслед убегающей молодёжи.
– На Марс полетят всенепременно, помяни моё слово. Вот мы, когда на броненосце «Нахимов» с япошками воевали, могли ли помыслить про эдакое?..
Послеполуденное весеннее солнце припекало всё сильнее. Новорождённый Космонавт уже научился держать голову и пытался встать на пока ещё слабые ножки. Дед Нахимыч, закончив уборку и пошарив под стрехой, извлёк початую бутылку зелёного стекла, заткнутую свёрнутой в трубочку газеткой.
– Ну что, Иван, давай – за Гагарина?
– Давай, старик, за Гагарина! И за космонавтов, чтоб их побольше у нас нарождалось!..

Гурам СВАНИДЗЕ
Родился в 1954 году в городе Зестафони (Грузия), окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета и аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, кандидат философских наук, работал в правозащитных организациях. Автор ряда научных статей по вопросам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции, а также рассказов, печатавшихся в российских толстых журналах. Г. Сванидзе издал автор четырёх сборников рассказов «Тополя», «Рассказы», «Дриблинг», «Тёмные аллеи».
Живёт в Тбилиси.
Родился в 1954 году в городе Зестафони (Грузия), окончил факультет журналистики Тбилисского государственного университета и аспирантуру Института социологических исследований АН СССР, кандидат философских наук, работал в правозащитных организациях. Автор ряда научных статей по вопросам глобализации, гражданской интеграции, эмиграции, а также рассказов, печатавшихся в российских толстых журналах. Г. Сванидзе издал автор четырёх сборников рассказов «Тополя», «Рассказы», «Дриблинг», «Тёмные аллеи».
Живёт в Тбилиси.
КОКОМОТЭ
Цикл миниатюр
Ке-ке
В одном просвещённом московском обществе я принял участие в салонной игре. По очереди назывались фразы, означающие «смерть». Запнувшийся выбывал. Мне, технарю, было трудно угнаться за филологами. Выражения типа «ушёл в мир иной», «преставился», «отдать концы», «протянуть ножки», «отбросить копыта», «сыграть в ящик», «дать дуба», «почить в бозе» казались им тривиальными. Были и такие, что снобистски морщились. Игру продлевало одно обстоятельство: компания была многонациональная, и допускались переводы на русский. Но и эта поблажка не помогла мне. Я долго оставался в аутсайдерах. Одна дама-лингвист записывала новые для неё обороты.
Вдруг меня осенило, и я произнёс: «Ке-ке». От неожиданности все смолкли. Потом спросили перевод, кое-кто засомневался: вообще, слово ли это?
Та самая лингвист, что записывала, заметила: «Знаю я это ваше кавказское гортанное или фарингальное согласное». Затем без запинки и правильно произнесла на грузинском: «Бакаки цкалши кикинебс», что означает: «Квакушка квакает в аквариуме». Видимо, она – хороший специалист, подумал я. Но в свой блокнот «специалист» мою фразу не внесла. Между тем с этим «неологизмом» связаны истории.
Слово изобрёл Важа – местный дурачок. У него была инфантильная речь, что доставляло ему немало неприятностей. Однажды мужчины играли на улице в нарды, когда вдруг принесли весть, что скончался столетний дядя Вано. Возникла некоторая заминка. И тут Важа произнёс: «Вано ке-ке!» «Слово» прижилось. У нас, в одном из кварталов тбилисской Нахаловки, оно считалось интернациональным. Правда, русским произносить его было труднее из-за этого «к».
Что ни говори, такие, как Важа, нужны! Можно было «прикинуться» Важей, куролесить, лепетать, как дитя. Но всегда безвозмездно ли?
Этим вопросом одним из первых задался наш сосед Бежан, когда ему стало совсем плохо. Он долго корил себя за то, что злоупотреблял алкоголем. Но потом вдруг на него нашло: он – наказан.
Случилось это в тот день, когда умер Роберт, молодой парень. Он страдал от безжалостной болезни и скончался в больнице. Позвонили соседке. Женщина вышла из своих ворот на улицу и со слезами в голосе сообщила новость. В это время Бежан с другими мужчинами играл в домино. Он выигрывал и пребывал в хорошем настроении. «Роберт ке-ке!» – вырвалось неожиданно у Бежана. Но этого никто не заметил, потому что остальные мужчины всполошились и подошли к соседке. Бежан с костями домино оставался сидеть.
Через некоторое время у Бежана стала побаливать печень, пропал аппетит, появилась слабость. Он вынужден был оставить работу в таксопарке. Вдруг начал расти живот... Врачи установили: цирроз.
Он лежал в постели, когда в голову стукнуло: «Бежан ке-ке!» Стало обидно. Он позвал жену и попросил подвести его к окну посмотреть, что там, на улице. Как всегда, под летний вечер мужчины играли в домино, бегали дети. Ему мерещилось непрекращающееся: «Ке-ке-ке!» Похоже, как гуси гогочут.
Однажды слово стало причиной убийства.
Петре ненавидел своего старика-тестя. Он называл его «пердящей субстанцией». Филиппе (так звали отца жены), в свою очередь, считал зятя неудачником – «умным дураком» или «дурным умником». Тот был единственным, кто имел высшее образование из всех живущих в убане, но зарабатывал меньше шоферов, работников прилавка, которые преобладали в соседском окружении. Бесило Петре то, как Филиппе чавкал во время еды, но особенно то, как произносилось им одиозное «ке-ке»: «Каркает, как ворон!» Ему становилось жутко, когда представлял себе картину: он умер, а Филиппе говорит на улице: «Мой зять ке-ке!»
Петре действительно смертельно заболел.
В то мартовское утро он сидел на скамейке в садике. Он ослаб. Сидел, укутавшись в пальто. Филиппе ковырялся в земле, подкапывал виноградник. В какой-то момент Петре послышалось старческое брюзжание: дескать, у людей зятья как зятья, а ему, старику, самому приходится в саду ковыряться. Больной разнервничался, в нём поднялся гнев. Он схватился за садовый нож, встал, качаясь, и с воплем «Ке-ке!!» направился к тестю...
Следствие списало убийство на временное помутнение разума больного. Петре что-то лепетал, как Важа. Сам он умер скоро. Его похоронили в деревне, далеко от этих мест.
Однажды я услышал это сакраментальное слово в женском исполнении. Моя соседка – врач. У неё жила сестра – приживалка и старая дева. Однажды по просьбе хозяйки я возился у них на кухне, починял кран. В это время докторша принимала пациентку – обследовала её грудь на предмет опухли. Слышу, как она сказала женщине: мол, снимок сделай, на ощупь что-то есть. Стукнула дверь, ушла пациентка. Тут приживалка торжественно и радостно выдала: «С ней – ке-ке, так ведь!» Обе злорадно захихикали. Пикантности ситуации прибавляло то, что пациентка приходилась сестричкам подружкой.
Я помню Важу постаревшим и забитым. Вольности, которые ему дозволялись, не делали его счастливыми. Этот идиот всегда страдал. Он, может быть, не помнил, что одарил Нахаловку таким словом. И вот в Москве я про него вспомнил.
Совсем недавно тоже...
Мне с сотрудниками довелось поехать в Менгрелию на похороны родственника нашего начальника. Менгрельцы вообще отличаются большой изобретательностью по части разных церемоний. И на этот раз нас ожидал «сюрприз». Когда мы вышли из автобуса и, понурые, направились к воротам, то у самого входа столкнулись с портретом пожилого мужчины в натуральный рост. С полотна на нас сурово смотрел человек в сером костюме. Его правая рука отделялась, торчала, преодолевая двухмерность изображения – ручной протез. Рядом стоявшие родственники плачущим голосом (женщины голосили) разъясняли прибывающим, что покойник любил встречать гостей у самых ворот и всегда подавал им руку. Среди людей в трауре я увидел мужчину, правый рукав костюма которого был пуст и заправлен в карман. С жутким чувством я пожал протез. Одной из сотрудниц стало дурно. Пришлось объяснять присутствовавшим, что она очень близко была знакома с усопшим...
Но вот церемония закончилась. Мы вернулись с кладбища. Зашли в разбитую во дворе палатку, заставленную столами. Помянули вином умершего. Когда мы выходили из палатки («под мухой», качаясь), увидели, как мимо нас на тележке провозили портрет. Уже без «руки». Что-то знакомое вдруг послышалось. Плохо смазанные колёса тележки издавали: «Ке-ке-ке»…
Кстати, под конец той самой салонной игры в Москве кто-то предложил перебрать словесные обороты, синонимы слова «жизнь». Увы, таковых не нашлось.
Бэ-мэ
Соседский мальчик принёс домой тетрадку, которую подобрал на подоконнике школьного туалета. Обыкновенную салатового цвета двенадцатилистовую тетрадку в клетку. Он долго держал её в тайне, не показывал отцу, хотя не боялся его и не особенно заботился о том, что тот секрет раскроет. Не показывал мальчик тетрадку и товарищам...
Когда парнишка первый раз раскрыл тетрадь, его позабавил рисованный шариковой ручкой фашистский флаг, свесившийся с крыши рубленной избы, и немец, справляющий за её углом малую нужду. Другой рисунок был «натуралистичнее»: однополчане фашиста ковыряли ставший вдруг огромным пенис солдата (один – ножом, другой – вилкой). Они ухмылялись, и что-то шизоидное было в их ухмылке.
Мальчика в детстве пугали неким монстром по имени Бэ-мэ. Если он капризничал, проявлял неповиновение, кто-нибудь из взрослых стучал незаметно по какому-нибудь предмету и принимал испуганный вид: «Кушай кашу! Это Бэ-мэ пришёл. Он охотится за непослушными мальчиками!..»
И вот в свои десять лет он наконец-то увидел этого монстра в тетрадке. Огромного роста волосатое существо, исходящее похотливой слюной (даже язык высунул), своими волосатыми клешнями пытающееся обнять стайку кучерявых голеньких младенчиков... Он снова и снова втайне от всех рассматривал это чудовище. Каждый раз его охватывал жуткий страх, он бледнел. Иногда мальчик задерживался у подоконника школьного туалета. Как будто ждал кого-то.
Однажды его застукал отец. Он отнял у ребёнка тетрадь. «Кто это нарисовал?» – спросил он. Мальчик молчал. Его бледность пугала родителя. Он позвал мать, что-то шепнул ей на ухо.
На следующий день отец отнёс тетрадку директору школу. Они вполголоса обсуждали содержимое тетрадки, и потом директор порвал её. С того дня у туалета дежурил кто-нибудь из старшеклассников. «К параше приставили!» – острила над каждым очередным дежурным ребятня.
Гитри-гитри-гитруна!
Детей пугают кем-то или чем-то. На одного мальчика наводило страх некое существо по имени Бэ-мэ. Другой побаивался обычных милиционеров. Источником моей фобии был совершенно частный субъект по имени Дуру Перадзе, инженер. Наваждение нашло на меня с момента, когда поблизости от нашего дома началось строительство четырёхэтажного жилого здания. Каждое утро начиналось с воплей инженера. Тогда строили долго и много. Завершив дом, приступали к другому – тут же, недалеко. Казалось, что не будет конца моим терзаниям. Меня не пугало содержание гневливых отповедей инженера – мат-перемат и одно-два связанных предложения. Мандраж вызывал его голос: хриплый, сипящий, в упоении переходящий на кликуший регистр, чуть ли не на женское меццо. Возведённые стены создавали эффект эха. Ор вдруг обрывался, был слышен спокойный, урезонивающий хриплый бас. Потом наступала глубокая тишина. Возникало жуткое ощущение, будто ИТР учинил-таки свою расправу.
В моей семье это пугало использовали в педагогических целях. Его звали, когда я отказывался есть гречневую кашу. Кстати, с тех пор её ненавижу. Или, стоило мне заявить о своих правах, как раздавался стук в дверь. Мне тихим голосом сообщали, что пришёл инженер со стройки: справляется, кто, мол, здесь не слушается.
Самого Дуру я не видел. Мне казалось, что обладателем такой луженной глотки мог быть только монстр из сказки, которую родители зачитывали мне до дыр. Я готов был её слушать постоянно. Ведь конец у неё был счастливым. В одно прекрасное утро на стройке никто не вопил. Так прошёл день. Потом я узнал, что Дуру повысили в должности. Он перебрался в кабинет. Мне на радость!
Однажды на улице мой отец поздоровался с одной парой, мужчиной и женщиной. Она – красивая нежная женщина в макинтоше, он – типичный мужлан с хриплым голосом, тоже в макинтоше и в цилиндре. Обращали на себя внимание бородавка на его носу и хриплый голос. Оба улыбались мне и моим родителям, мужчина даже потрепал меня за подбородок, приговаривая: «Гитри-гитри-гитруна!» Слова отдалённо напоминали название огурца на грузинском языке («китри»), но в данном случае это бахчевое было ни при чём. Он был грубовато ласков и игрив в тот момент.
– Это Дуру Перадзе – инженер с женой, – сказал маме отец.
«Он не такой уж и страшный!» – подумал я.
Прошло много лет, пока я не встретил Дуру ещё раз и при весьма неординарных обстоятельствах...
Времена наступили тяжёлые. Ситуация в обществе накалилась. У власти находился Звиад Гамсахурдия. Парламент того периода напоминал семью на грани развода. Стороны параноидально искали повод для обиды. В тот день оппозиция поставила вопрос, а звиадисты, пребывающие в большинстве, должны были, конечно, его отклонить. На лужайке перед университетом (оплот оппозиционеров!) поставили телеприёмник. Десятки людей уставились на малый экран, с замиранием сердца следя за трансляцией. И вот в зале парламента и на лужайке перед университетом всё стихло. Шёл подсчёт голосов. Тогда не было электронной системы. Процедура затягивалась.
– Ты представь себе, если предложение всё-таки пройдёт, – шепнул я своему товарищу на ухо. Мы сидели на траве сбоку от ТВ, в не самом удобном месте. Товарищ только побледнел в ответ. Поёжился. Предложение не прошло, и он облегченно выдохнул. Ораторы с обеих сторон обменялись филиппиками. Спор шёл, кто же из них в большей степени европейского типа демократ. Оппозиция коллективно стала покидать зал. Им улюлюкали в спину представители большинства, а при выходе на улице депутатов осыпали мукой активистки правящей партии. Такой метод политической борьбы уже активно использовался. То, что стороны осыпали друг друга кукурузной, а не пшеничной мукой, считалось знаковым явлением: из неё обычно готовились хлебцы «мчади», что добавляло этническую специфику действу. Как и то, что в ходу было другое народное средство – среди звиадисток находились профессиональные плакальщицы и спецы по фольклорному жанру проклятий.
Люди, находившиеся перед университетом, собрались было маршем направиться в сторону парламента, но последовала команда оставаться на месте: мол, ребята сами сюда едут. Действительно, через пятнадцать минут они прибыли на автобусе, многие – в побелевших от муки костюмах. Их встретили, как героев, пострадавших от «этнических обскурантов». Некоторые из них сразу же начали витийствовать. Раздался призыв к активным действиям. Народ, уже сформировавшийся в многочисленную демонстрацию, направился к зданию телецентра. Идти было недолго. Телецентр захватили быстро – достаточно было выгнать немногочисленных милиционеров. Тут пришло известите, что в отместку звиадисты отключили телебашню. Манифестанты остались недовольны собой. Не подумали о телебашне?! Кстати, депутаты принесли с собой списки поименного голосования. Мы с приятелем жадно искали в нём имя нашего однокурсника. Тот, оказывается, воздержался при голосовании.
– Вот хитрец-подлец! – воскликнул приятель.
Начался митинг. Для его удобства было решено перекрыть проспект перед зданием телецентра. Автомобилисты, которым перекрыли путь, выражали недовольство. По их физиономиям было видно, что пикеты на улицах стали всем досаждать. Большинство из них, матерясь, разворачивали свои авто. Попадались и такие, кто пытался договориться с добровольными дружинниками. Везло тем, кто обнаруживал среди них знакомых. Грозный окрик со стороны воздвигаемой трибуны прекратил такого рода протекционизм.
– Вы мешаете общей борьбе за дело строительства демократии в Грузии! – кричал через мегафон в сторону дружинников один из лидеров.
Тут к пикету подкатила старая «Волга». Машина чем-то походила на малый броневик с его угловатыми, но прочными формами. Видавшее виды авто! Из кабины вышел крупный мужчина. По повадкам он чем-то напоминал кабана-секача: свирепая физиономия, мощная шея выдвинута вперёд, бегающие глазки; нос с бородавкой как бы принюхивался. Хриплым голосом, не терпящем возражений, он потребовал освободить проезд. Манифестанты сначала опешили: какой-то мужик, с виду ИТР, начальничек с производства, качает права перед праведным народом!
Со стороны трибуны послышалось предупреждение:
– Не поддавайтесь провокациям звиадистов, проявляйте толерантность. Свобода слова – вот зачем мы здесь собрались!
Тут некоторые мои знакомые повели себе неожиданно. Помянутый приятель, например, сущий ботан, книжник, вдруг бросился к машине и лёг на её капот. «Никакой я не звиадист! – кричал в это время мужчина толпе. – Они такие же бездельники, как и вы! Делом займитесь!» Эпитет был произнесён на русском с сильным грузинским акцентом: бэздэлники! Что-то до боли знакомое послышалось мне. Я вспомнил инженера со стройки… И тут последовало: «Не буду я Дуру Перадзе, если...» Я уставился на него, даже прекратил попытки урезонить впавшего в раж своего приятеля. Пока строптивый Дуру препирался с толпой, тот с капота переместился под колёса «Волги», присоединился к другим энтузиастам идеи. То, что узнавание не было ложным, подтвердил факт: из кабины вышла красивая женщина – знакомая мне жена инженера. С плаксивым выражением лица она пожаловалась народу, что теперь у мужа испортилось настроение, и он весь вечер будет «есть её поедом».
– Садись в машину, женщина! – окликнул её грозный супруг. Потом брезгливо посмотрел на барахтающихся у колёс его «Волги» манифестантов разной комплекции и возраста. Один из них был знакомым мне доцентом университета. Убедившись, что упрямец не является звиадистом, демонстранты заподозрили: а не коммунист ли он? На что последовала реплика: мол, все политики – прохвосты, а коммуняги – первые из них. Назревал альтернативный митинг, где строптивец был в единственном числе. Впрочем, инцидент был исчерпан. Дуру ещё раз обозвал всех «бэздэлниками», развернул свою «Волгу», издал чёрный едкий выхлоп газом и скрылся.
«Гитри-гитри-гитруна, Дуру!» – промелькнуло в моей голове.
День можно было назвать историческим, потому что оппозиция так и не вернулась в парламент, а через некоторое время в Тбилиси разразилась гражданская война. Увы, настоящая, с десятками жертв.
Пока нет, пока нет...
Как-то я беседовал с одной американской коллегой. Она изучала тексты, которые публиковались в «Комсомолке» под рубрикой «Алый парус». Её удивляла инфантильность советских людей. Дескать, большинство авторов – недетского возраста, а столько выспренности у них на темы любви. Я ничего не ответил, лишь вспомнил случай, о котором рассказал ей...
Поездом я направлялся в Тбилиси. В плацкарте компанию мне составили два абитуриента. Их сопровождал молодой человек постарше, как потом выяснилось, сотрудник одной из столичных газет. Все трое были из провинциального городка в западной Грузии; вполне возможно, приходились друг другу родственниками. Я был младше их – только-только перешёл в десятый класс. Молодой человек задавал своим подопечным вопросы «на засыпку», проверял знания. Иногда и мне удавалось вставить слово, раз даже удостоился похвалы: один из попутчиков сказал, что мне бы прямо сейчас в вуз поступать.
Пассажиры, находившиеся в плацкарте, доброжелательно поглядывали на компанию. Парнишки производили впечатление хорошо воспитанных и весёлых, журналист же выглядел вальяжным в своём костюме, галстуке, со сдержанными манерами. Ребята были с ним вроде на равных, но заметен был некоторый пиетет, который они испытывали к нему. В какой-то момент абитуриенты стали настаивать, чтобы Тенгиз (имя журналиста) поделился чем-нибудь из своего творчества. Тот несколько помялся, но потом согласился.
Его рассказик показался романтичным. В купированном вагоне ночного поезда юноша путешествовал с незнакомкой. У неё была томная повадка: «говорила размеренно, движения рук, мимика – плавные и замедленные». Юноша уступил даме нижнюю полку. Несомненно, он проникся к ней симпатией. Наступило время отхода ко сну. В какой-то момент она попросила его удалиться в коридор. Он стоял в коридоре и смотрел в окно. Мимо проносился ночной пейзаж, а в голове под стук колёс звучало: «Пока нет, пока нет...» Ночью он ворочался на верхней полке, томился от того, как ритмично стучало в голове: «Пока нет, пока нет!» Рассказ кончился тем, что девушку на перроне встретила многочисленная родня. Так и расстались ни с чем.
Зрители похвалили автора. Некоторые женщины даже умилились рассказу. Он подкупал невинностью. Времена были «строгие» – 60-е годы, аудиторию составляли женщины, провинциалки с традиционным воспитанием. Я, тинейджер, вторил им, а абитуриенты сияли от гордости за своего родственника. Фразу-рефрен слушатели приняли как нечто само собой разумеющееся. Никто не усмотрел в ней двусмысленности...
Кстати, я первый раз тогда воочию увидел писателя.
Кончив своё повествование, я вопрошающе посмотрел на коллегу-американку, которая немного поморщилась.
– Очередный опус в духе «Алого паруса», – отрубила она. Потом признала, что автор, впрочем, хорошо передал навязчивый мотив, идущий от репрессивной культуры.
– Ритмично и исподволь!
Кокомотэ
Племянник Наполеона изучал английский. Дядюшка помогал ему. Однажды парнишка пересказывал текст... Мальчик-бушмен по имени Утэтэ жил недалеко от заповедника, где работал его отец, который по версии племянника пас там носорогов. Дядюшка не стал исправлять неточность насчёт носорогов и их пастуха, ибо пребывал под впечатлением от столь экзотичного имени африканского парубка. Другое то, что в тот момент Напо связал это имя с инфантильной речью соседского ребёнка. Ему было четыре года, а он только одно талдычил: «Кокомотэ, кокомотэ!» Это слово обозначало все доступные сознанию парнишки явления, варьировалось только эмоциональное наполнение: плача или смеясь, он нараспев произносил своё «Кокомотэ»... «Звучит, как Утэтэ», – сделал про себя заключение Напо.
В тот день тема получила неожиданное развитие. Вечером к Наполеону зашёл дальний родственник. За лекарством. Этот тип отличался ипохондрическим характером и лечил свои многочисленные недуги исключительно дорогими и редкими лекарствами, к коим Наполеон, как провизор, имел доступ. В этот вечер гость, верный себе, много говорил о своих болячках. А потом начал разглагольствовать о том, чем болел Наполеон Бонапарт, о том, сколько раз император пытался покончить жизнь самоубийством. Провизор досадовал от того, что каждый раз собеседник для пущей убедительности направлял на него свой взгляд.
Напо Спиридонович попытался замять неловкую ситуацию, заметив мягко:
– На моё счастье я не столь амбициозен, как мой тёзка!
Ипохондрик понял намёк и затих. В это время по телевизору показывали цирковое представление. Напо смеялся проделкам клоуна. Гость не разделял его веселье. Ему вдруг вспомнился фильм: самые мрачные эпизоды апокалипсиса, которые увековечивали кадры двух танцующих марионеток – мужчины и женщины. Они танцевали не под музыку, а под ритм «весьма идиотской фразы» (выражение, к которому прибег рассказчик): «Тэтэ-матэтэ, тэтэ-матэтэ». Тут Напо покраснел; «фраза» ассоциировалась у него с именем мальчугана-бушмена и речью косноязычного соседского мальчика: «Тэтэ-матэтэ…утэтэ…кокомотэ». Вдруг с экрана телевизора донеслась команда дрессировщика тигров: «Патэ!!» Провизор даже подскочил, так зычно это прозвучало.
«Тэтэ-матэтэ, кокомотэ, Утэтэ, патэ!» – чуть было не выпалил он.
Напо стал замечать, что в городе появилось много африканцев. Сплошь крепкие, молодые люди. Ходил миф, что все они – футболисты. Как-то в зимнюю пору он стоял у дверей аптеки, наблюдая за чернокожими молодыми парнями, что толпились у входа в продуктовый магазин. Один из них был в одной сорочке. «В такой холод!» – промелькнуло в голове у Напо. У его сестры недавно умер свёкр, и у провизора промелькнула благая мысль, что можно было раздать оставшуюся одежду мигрантам. Он бросился звонить сестре. Она долго не могла понять, о каких неграх говорит её брат, и какое отношение к африканскому футболу мог иметь покойный свёкр. Сказалась манера Напо говорить тихо, скромно («мямлить», по словам сестры).
Когда Напо вышел на улицу, негры, двинувшись с места, проходили мимо, лопоча на своём языке. Один из них нёс пакет с сахаром. «Четыре парня ждали, пока пятый купит кило сахара, а теперь, наверное, на суахили обсуждают покупку», – вёл внутренний монолог аптекарь. Неожиданно для себя на английском он спросил проходивших мимо, не футболисты ли они.
–Да! Да!! – ответили те хором с такой готовностью, словно чтоб не дать повода заподозрить их в том, что они – нелегальные мигранты.
«Интересно, есть ли среди них парень по имени Утэтэ», – подумал аптекарь.
Но вот после некоего случая Напо перестал проявлять любопытство к мигрантам из Африки...
Он стоял у выхода метро «Проспект Руставели». Ждал меня. Мой приятель пришёл вовремя, я же запаздывал. Напо не терял зря время и рассматривал прохожих. Тут его внимание привлёк один негритянский юноша. Тот точно не был футболистом: клянчил деньги, попрошайничал. На посредственном грузинском языке мигрант живописал, что голоден, что хочет собрать деньги на билет на самолёт, чтобы улететь домой. Народ проходил мимо и на спичи чернокожего парня не реагировал.
Напо стал анализировать ситуацию. Этот тип выбрал невыгодную позицию. Сзади стоявшего парня находилось большое пространство, в глубине которого располагались скамейки, на них сидели довольно привлекательные девицы. Здорового с виду попрошайку это пространство поглощало. «Таким образом, – рефлексировал провизор, – внимание людей к его особе не могло быть акцентированным».
Он подошёл к парню, подал ему двадцать тетри и на английском посоветовал встать у парапета: дескать, там тень и ещё... Далее последовали рассуждения о неудачной тактике попрошайки. Молодой человек повиновался, но Напо не был уверен, что был полностью понят. Негр двусмысленно, с интересом смотрел на малого роста, полноватого, с рыжими волосами и веснушками мужчину. Чем больше старался казаться вежливым мой приятель, тем больше подозрения выказывал по отношению к нему темнокожий.
Напо был доволен своим открытием, почти гордился: «Да, у меня талант к попрошайничанию!» Мой приятель расплылся в улыбке; ему вспомнилось, как наградил аналогичным комплиментом Кису Воробьянинова Остап Бендер. Провизор не переставал наблюдать за негром. У того «бизнес» вроде наладился – несколько прохожих вняли его мольбам-просьбам. Напо даже забыл, зачем, собственно, находился у выхода метро. Он опять подошёл к молодому человеку. Хотел спросить его об успехах и ещё... имя. Негр смотрел откровенно сально и с вызовом. Но имя своё назвал: Фердинанд.
«Да, имя нордическое, совсем не африканское, как Утэтэ», – усмехнулся про себя Напо. В этот момент к киоску неподалеку подошёл другой негр. Судя по его поведению и аккуратной одежде, он был более успешным – может быть, действительно играл в футбол за какую-нибудь местную команду. Африканцы обменялись фразами на своём языке. При этом оба с гадким интересом поглядывали на «местного». Наполеон уже догадывался, за кого его принимают. Когда «футболист» ушёл, он бросил ещё двадцать тетри в лапу негра и спросил, о чем тот говорил с земляком. Попрошайка отреагировал нагло, заявив, что «те дела» (здесь он сделал неприличный жест) могут стоить гораздо дороже – двадцать лари. Напо вспыхнул и внутренне вскипел. Впрочем, он не знал, как поступить в такой щекотливой ситуации. Сжал свои белые, покрытые веснушками кулачки. Побить мигранта?! Негр быстро смекнул, что оплошал, и быстро ретировался – ушёл в сторону проспекта.
Когда я подошёл к приятелю, тот стоял растерянный и красный. Напо мямлил абракадабру типа: «Утэтэ, кокомотэ, тэтэ-матэтэ, патэ...»
«Браво, Кук-к-к-у-р-рыч!»
Один грузинский футболист попал в книгу рекордов Гиннеса. В течение шести часов он без остановки жонглировал мячом – причём, головой. И не только жонглировал, но и вёл разговоры с членами специальной комиссии. Говорят, рекордсмен даже умудрился при том сходить по малой нужде. Мяч, как заворожённый, продолжал прыгать на его черепе.
Кстати, этот футболист другими футбольными достоинствами не отличался.
Мой одноклассник Вано был чем-то похож на этого субъекта. Он тоже мог выкинуть нечто на баскетбольной площадке. Однажды в городском зале, где шёл турнир, Вано произвёл сенсацию. Но сделал это не во время игры, а в промежутке между матчами, когда нетерпеливым зрителям дают порезвиться на площадке. Во всеобщей возне участвовал и Андро. Пользуясь своим почти двухметровым ростом, он с лёгкостью подбирал мячи, отскакивающие от щита: сам не бросал, а великодушно отдавал кому-нибудь из мальчишек, которым было несподручно бороться под кольцом.
В один момент Андро выудил из толпы Вано, невысокого паренька в очках. Получив мяч, тот отступил к самой середине площадки и по высокой траектории послал мяч в сторону кольца. Всплеск сетки кольца, точное попадание! А мяч – снова у Вано: после лёгкой оторопи в зале ему безропотно уступили очередь на бросок. На сей раз он подошёл к щиту поближе и с отскоком от пола послал мяч в кольцо... «Браво, Кук-к-к-у-р-рыч!» – крикнул на весь зал Гио, слегка придурковатый малый. Дело в том, что Вано по отчеству был Кукурьевич, что приводило Гио в восторг. Произносить «Кук-к-к-у-р-рыч!» доставляло ему удовольствие.
Во время игры Вано был не столь расторопен. Вроде бы тренировался много, даже тик у него был: периодически, не ко времени и месту воздевал правую руку и прищуривался – имитировал бросок. На площадке, получив мяч, Вано начинал суетиться – «телиться», как говорил тренер. Раз, потеряв ориентацию, он врезался с мячом в судейский столик, опрокинув его. А однажды попытался сделать свой коронный бросок с середины площадки, но не попал даже в щит, угодив мячом в физиономию одного из зрителей. «Чтоб не смешить гусей» (выражение тренера), Вано не оставили в составе.
Держать в моей памяти Вано особого резона не было. Я уехал из городка, перебрался в Тбилиси, а потом и в Москву. Ездил много. Названия многочисленных городов и городков смешались в моём сознании. Сохранились лишь эпизоды. Так вот, в одном сибирском городишке мне выпал случай вспомнить своего одноклассника... Пока ехал из районного центра в этот город в полупустом пазике, познакомился с одной миловидной особой... А по дороге к гостинице наблюдал похоронную процессию. Красный гроб, неестественно яркие в солнечный морозный день искусственные цветы и серого цвета покойник. «Угорел от водки, окаянный!» – расслышал я комментарий старушки, что стояла рядом...
Ольга, знакомая из автобуса, навестила меня в гостиничном номере. Она долго не называла свою фамилию. «Помните, у Чехова? Есть у него рассказ «Лошадиная фамилия»…» «Кукури!» – всплыло в памяти. В Грузии таким именем называют не только мальчиков, но и лошадей. «У моего одноклассника было лошадиное отчество», – заметил я гостье...
…Я женился в третий раз. Новая жена была из мормонского штата Юта (USA). При нашей первой встрече я поинтересовался, не мормонка ли она, на что последовало: «Прозелитизмом не занимаюсь!»
Вчера со мной произошло нечто несуразное. Я был на баскетбольном матче. Играли «Юта Джаз» и «Атланта Хоукс». В перерыве между таймами массовик-затейник предложил зрителям разыграть пятьсот баксов. Для этого надо было забросить мяч с центра площадки. Желающих набралось много. И вот из толпы отделился невысокий белый мужчина в очках, наверное, моего возраста. Он уверенно взял мяч в руки и мощно бросил. Точно!!
– Браво, Кук-к-ку-р-рыч!! – вырвалось вдруг у меня.
Цикл миниатюр
Ке-ке
В одном просвещённом московском обществе я принял участие в салонной игре. По очереди назывались фразы, означающие «смерть». Запнувшийся выбывал. Мне, технарю, было трудно угнаться за филологами. Выражения типа «ушёл в мир иной», «преставился», «отдать концы», «протянуть ножки», «отбросить копыта», «сыграть в ящик», «дать дуба», «почить в бозе» казались им тривиальными. Были и такие, что снобистски морщились. Игру продлевало одно обстоятельство: компания была многонациональная, и допускались переводы на русский. Но и эта поблажка не помогла мне. Я долго оставался в аутсайдерах. Одна дама-лингвист записывала новые для неё обороты.
Вдруг меня осенило, и я произнёс: «Ке-ке». От неожиданности все смолкли. Потом спросили перевод, кое-кто засомневался: вообще, слово ли это?
Та самая лингвист, что записывала, заметила: «Знаю я это ваше кавказское гортанное или фарингальное согласное». Затем без запинки и правильно произнесла на грузинском: «Бакаки цкалши кикинебс», что означает: «Квакушка квакает в аквариуме». Видимо, она – хороший специалист, подумал я. Но в свой блокнот «специалист» мою фразу не внесла. Между тем с этим «неологизмом» связаны истории.
Слово изобрёл Важа – местный дурачок. У него была инфантильная речь, что доставляло ему немало неприятностей. Однажды мужчины играли на улице в нарды, когда вдруг принесли весть, что скончался столетний дядя Вано. Возникла некоторая заминка. И тут Важа произнёс: «Вано ке-ке!» «Слово» прижилось. У нас, в одном из кварталов тбилисской Нахаловки, оно считалось интернациональным. Правда, русским произносить его было труднее из-за этого «к».
Что ни говори, такие, как Важа, нужны! Можно было «прикинуться» Важей, куролесить, лепетать, как дитя. Но всегда безвозмездно ли?
Этим вопросом одним из первых задался наш сосед Бежан, когда ему стало совсем плохо. Он долго корил себя за то, что злоупотреблял алкоголем. Но потом вдруг на него нашло: он – наказан.
Случилось это в тот день, когда умер Роберт, молодой парень. Он страдал от безжалостной болезни и скончался в больнице. Позвонили соседке. Женщина вышла из своих ворот на улицу и со слезами в голосе сообщила новость. В это время Бежан с другими мужчинами играл в домино. Он выигрывал и пребывал в хорошем настроении. «Роберт ке-ке!» – вырвалось неожиданно у Бежана. Но этого никто не заметил, потому что остальные мужчины всполошились и подошли к соседке. Бежан с костями домино оставался сидеть.
Через некоторое время у Бежана стала побаливать печень, пропал аппетит, появилась слабость. Он вынужден был оставить работу в таксопарке. Вдруг начал расти живот... Врачи установили: цирроз.
Он лежал в постели, когда в голову стукнуло: «Бежан ке-ке!» Стало обидно. Он позвал жену и попросил подвести его к окну посмотреть, что там, на улице. Как всегда, под летний вечер мужчины играли в домино, бегали дети. Ему мерещилось непрекращающееся: «Ке-ке-ке!» Похоже, как гуси гогочут.
Однажды слово стало причиной убийства.
Петре ненавидел своего старика-тестя. Он называл его «пердящей субстанцией». Филиппе (так звали отца жены), в свою очередь, считал зятя неудачником – «умным дураком» или «дурным умником». Тот был единственным, кто имел высшее образование из всех живущих в убане, но зарабатывал меньше шоферов, работников прилавка, которые преобладали в соседском окружении. Бесило Петре то, как Филиппе чавкал во время еды, но особенно то, как произносилось им одиозное «ке-ке»: «Каркает, как ворон!» Ему становилось жутко, когда представлял себе картину: он умер, а Филиппе говорит на улице: «Мой зять ке-ке!»
Петре действительно смертельно заболел.
В то мартовское утро он сидел на скамейке в садике. Он ослаб. Сидел, укутавшись в пальто. Филиппе ковырялся в земле, подкапывал виноградник. В какой-то момент Петре послышалось старческое брюзжание: дескать, у людей зятья как зятья, а ему, старику, самому приходится в саду ковыряться. Больной разнервничался, в нём поднялся гнев. Он схватился за садовый нож, встал, качаясь, и с воплем «Ке-ке!!» направился к тестю...
Следствие списало убийство на временное помутнение разума больного. Петре что-то лепетал, как Важа. Сам он умер скоро. Его похоронили в деревне, далеко от этих мест.
Однажды я услышал это сакраментальное слово в женском исполнении. Моя соседка – врач. У неё жила сестра – приживалка и старая дева. Однажды по просьбе хозяйки я возился у них на кухне, починял кран. В это время докторша принимала пациентку – обследовала её грудь на предмет опухли. Слышу, как она сказала женщине: мол, снимок сделай, на ощупь что-то есть. Стукнула дверь, ушла пациентка. Тут приживалка торжественно и радостно выдала: «С ней – ке-ке, так ведь!» Обе злорадно захихикали. Пикантности ситуации прибавляло то, что пациентка приходилась сестричкам подружкой.
Я помню Важу постаревшим и забитым. Вольности, которые ему дозволялись, не делали его счастливыми. Этот идиот всегда страдал. Он, может быть, не помнил, что одарил Нахаловку таким словом. И вот в Москве я про него вспомнил.
Совсем недавно тоже...
Мне с сотрудниками довелось поехать в Менгрелию на похороны родственника нашего начальника. Менгрельцы вообще отличаются большой изобретательностью по части разных церемоний. И на этот раз нас ожидал «сюрприз». Когда мы вышли из автобуса и, понурые, направились к воротам, то у самого входа столкнулись с портретом пожилого мужчины в натуральный рост. С полотна на нас сурово смотрел человек в сером костюме. Его правая рука отделялась, торчала, преодолевая двухмерность изображения – ручной протез. Рядом стоявшие родственники плачущим голосом (женщины голосили) разъясняли прибывающим, что покойник любил встречать гостей у самых ворот и всегда подавал им руку. Среди людей в трауре я увидел мужчину, правый рукав костюма которого был пуст и заправлен в карман. С жутким чувством я пожал протез. Одной из сотрудниц стало дурно. Пришлось объяснять присутствовавшим, что она очень близко была знакома с усопшим...
Но вот церемония закончилась. Мы вернулись с кладбища. Зашли в разбитую во дворе палатку, заставленную столами. Помянули вином умершего. Когда мы выходили из палатки («под мухой», качаясь), увидели, как мимо нас на тележке провозили портрет. Уже без «руки». Что-то знакомое вдруг послышалось. Плохо смазанные колёса тележки издавали: «Ке-ке-ке»…
Кстати, под конец той самой салонной игры в Москве кто-то предложил перебрать словесные обороты, синонимы слова «жизнь». Увы, таковых не нашлось.
Бэ-мэ
Соседский мальчик принёс домой тетрадку, которую подобрал на подоконнике школьного туалета. Обыкновенную салатового цвета двенадцатилистовую тетрадку в клетку. Он долго держал её в тайне, не показывал отцу, хотя не боялся его и не особенно заботился о том, что тот секрет раскроет. Не показывал мальчик тетрадку и товарищам...
Когда парнишка первый раз раскрыл тетрадь, его позабавил рисованный шариковой ручкой фашистский флаг, свесившийся с крыши рубленной избы, и немец, справляющий за её углом малую нужду. Другой рисунок был «натуралистичнее»: однополчане фашиста ковыряли ставший вдруг огромным пенис солдата (один – ножом, другой – вилкой). Они ухмылялись, и что-то шизоидное было в их ухмылке.
Мальчика в детстве пугали неким монстром по имени Бэ-мэ. Если он капризничал, проявлял неповиновение, кто-нибудь из взрослых стучал незаметно по какому-нибудь предмету и принимал испуганный вид: «Кушай кашу! Это Бэ-мэ пришёл. Он охотится за непослушными мальчиками!..»
И вот в свои десять лет он наконец-то увидел этого монстра в тетрадке. Огромного роста волосатое существо, исходящее похотливой слюной (даже язык высунул), своими волосатыми клешнями пытающееся обнять стайку кучерявых голеньких младенчиков... Он снова и снова втайне от всех рассматривал это чудовище. Каждый раз его охватывал жуткий страх, он бледнел. Иногда мальчик задерживался у подоконника школьного туалета. Как будто ждал кого-то.
Однажды его застукал отец. Он отнял у ребёнка тетрадь. «Кто это нарисовал?» – спросил он. Мальчик молчал. Его бледность пугала родителя. Он позвал мать, что-то шепнул ей на ухо.
На следующий день отец отнёс тетрадку директору школу. Они вполголоса обсуждали содержимое тетрадки, и потом директор порвал её. С того дня у туалета дежурил кто-нибудь из старшеклассников. «К параше приставили!» – острила над каждым очередным дежурным ребятня.
Гитри-гитри-гитруна!
Детей пугают кем-то или чем-то. На одного мальчика наводило страх некое существо по имени Бэ-мэ. Другой побаивался обычных милиционеров. Источником моей фобии был совершенно частный субъект по имени Дуру Перадзе, инженер. Наваждение нашло на меня с момента, когда поблизости от нашего дома началось строительство четырёхэтажного жилого здания. Каждое утро начиналось с воплей инженера. Тогда строили долго и много. Завершив дом, приступали к другому – тут же, недалеко. Казалось, что не будет конца моим терзаниям. Меня не пугало содержание гневливых отповедей инженера – мат-перемат и одно-два связанных предложения. Мандраж вызывал его голос: хриплый, сипящий, в упоении переходящий на кликуший регистр, чуть ли не на женское меццо. Возведённые стены создавали эффект эха. Ор вдруг обрывался, был слышен спокойный, урезонивающий хриплый бас. Потом наступала глубокая тишина. Возникало жуткое ощущение, будто ИТР учинил-таки свою расправу.
В моей семье это пугало использовали в педагогических целях. Его звали, когда я отказывался есть гречневую кашу. Кстати, с тех пор её ненавижу. Или, стоило мне заявить о своих правах, как раздавался стук в дверь. Мне тихим голосом сообщали, что пришёл инженер со стройки: справляется, кто, мол, здесь не слушается.
Самого Дуру я не видел. Мне казалось, что обладателем такой луженной глотки мог быть только монстр из сказки, которую родители зачитывали мне до дыр. Я готов был её слушать постоянно. Ведь конец у неё был счастливым. В одно прекрасное утро на стройке никто не вопил. Так прошёл день. Потом я узнал, что Дуру повысили в должности. Он перебрался в кабинет. Мне на радость!
Однажды на улице мой отец поздоровался с одной парой, мужчиной и женщиной. Она – красивая нежная женщина в макинтоше, он – типичный мужлан с хриплым голосом, тоже в макинтоше и в цилиндре. Обращали на себя внимание бородавка на его носу и хриплый голос. Оба улыбались мне и моим родителям, мужчина даже потрепал меня за подбородок, приговаривая: «Гитри-гитри-гитруна!» Слова отдалённо напоминали название огурца на грузинском языке («китри»), но в данном случае это бахчевое было ни при чём. Он был грубовато ласков и игрив в тот момент.
– Это Дуру Перадзе – инженер с женой, – сказал маме отец.
«Он не такой уж и страшный!» – подумал я.
Прошло много лет, пока я не встретил Дуру ещё раз и при весьма неординарных обстоятельствах...
Времена наступили тяжёлые. Ситуация в обществе накалилась. У власти находился Звиад Гамсахурдия. Парламент того периода напоминал семью на грани развода. Стороны параноидально искали повод для обиды. В тот день оппозиция поставила вопрос, а звиадисты, пребывающие в большинстве, должны были, конечно, его отклонить. На лужайке перед университетом (оплот оппозиционеров!) поставили телеприёмник. Десятки людей уставились на малый экран, с замиранием сердца следя за трансляцией. И вот в зале парламента и на лужайке перед университетом всё стихло. Шёл подсчёт голосов. Тогда не было электронной системы. Процедура затягивалась.
– Ты представь себе, если предложение всё-таки пройдёт, – шепнул я своему товарищу на ухо. Мы сидели на траве сбоку от ТВ, в не самом удобном месте. Товарищ только побледнел в ответ. Поёжился. Предложение не прошло, и он облегченно выдохнул. Ораторы с обеих сторон обменялись филиппиками. Спор шёл, кто же из них в большей степени европейского типа демократ. Оппозиция коллективно стала покидать зал. Им улюлюкали в спину представители большинства, а при выходе на улице депутатов осыпали мукой активистки правящей партии. Такой метод политической борьбы уже активно использовался. То, что стороны осыпали друг друга кукурузной, а не пшеничной мукой, считалось знаковым явлением: из неё обычно готовились хлебцы «мчади», что добавляло этническую специфику действу. Как и то, что в ходу было другое народное средство – среди звиадисток находились профессиональные плакальщицы и спецы по фольклорному жанру проклятий.
Люди, находившиеся перед университетом, собрались было маршем направиться в сторону парламента, но последовала команда оставаться на месте: мол, ребята сами сюда едут. Действительно, через пятнадцать минут они прибыли на автобусе, многие – в побелевших от муки костюмах. Их встретили, как героев, пострадавших от «этнических обскурантов». Некоторые из них сразу же начали витийствовать. Раздался призыв к активным действиям. Народ, уже сформировавшийся в многочисленную демонстрацию, направился к зданию телецентра. Идти было недолго. Телецентр захватили быстро – достаточно было выгнать немногочисленных милиционеров. Тут пришло известите, что в отместку звиадисты отключили телебашню. Манифестанты остались недовольны собой. Не подумали о телебашне?! Кстати, депутаты принесли с собой списки поименного голосования. Мы с приятелем жадно искали в нём имя нашего однокурсника. Тот, оказывается, воздержался при голосовании.
– Вот хитрец-подлец! – воскликнул приятель.
Начался митинг. Для его удобства было решено перекрыть проспект перед зданием телецентра. Автомобилисты, которым перекрыли путь, выражали недовольство. По их физиономиям было видно, что пикеты на улицах стали всем досаждать. Большинство из них, матерясь, разворачивали свои авто. Попадались и такие, кто пытался договориться с добровольными дружинниками. Везло тем, кто обнаруживал среди них знакомых. Грозный окрик со стороны воздвигаемой трибуны прекратил такого рода протекционизм.
– Вы мешаете общей борьбе за дело строительства демократии в Грузии! – кричал через мегафон в сторону дружинников один из лидеров.
Тут к пикету подкатила старая «Волга». Машина чем-то походила на малый броневик с его угловатыми, но прочными формами. Видавшее виды авто! Из кабины вышел крупный мужчина. По повадкам он чем-то напоминал кабана-секача: свирепая физиономия, мощная шея выдвинута вперёд, бегающие глазки; нос с бородавкой как бы принюхивался. Хриплым голосом, не терпящем возражений, он потребовал освободить проезд. Манифестанты сначала опешили: какой-то мужик, с виду ИТР, начальничек с производства, качает права перед праведным народом!
Со стороны трибуны послышалось предупреждение:
– Не поддавайтесь провокациям звиадистов, проявляйте толерантность. Свобода слова – вот зачем мы здесь собрались!
Тут некоторые мои знакомые повели себе неожиданно. Помянутый приятель, например, сущий ботан, книжник, вдруг бросился к машине и лёг на её капот. «Никакой я не звиадист! – кричал в это время мужчина толпе. – Они такие же бездельники, как и вы! Делом займитесь!» Эпитет был произнесён на русском с сильным грузинским акцентом: бэздэлники! Что-то до боли знакомое послышалось мне. Я вспомнил инженера со стройки… И тут последовало: «Не буду я Дуру Перадзе, если...» Я уставился на него, даже прекратил попытки урезонить впавшего в раж своего приятеля. Пока строптивый Дуру препирался с толпой, тот с капота переместился под колёса «Волги», присоединился к другим энтузиастам идеи. То, что узнавание не было ложным, подтвердил факт: из кабины вышла красивая женщина – знакомая мне жена инженера. С плаксивым выражением лица она пожаловалась народу, что теперь у мужа испортилось настроение, и он весь вечер будет «есть её поедом».
– Садись в машину, женщина! – окликнул её грозный супруг. Потом брезгливо посмотрел на барахтающихся у колёс его «Волги» манифестантов разной комплекции и возраста. Один из них был знакомым мне доцентом университета. Убедившись, что упрямец не является звиадистом, демонстранты заподозрили: а не коммунист ли он? На что последовала реплика: мол, все политики – прохвосты, а коммуняги – первые из них. Назревал альтернативный митинг, где строптивец был в единственном числе. Впрочем, инцидент был исчерпан. Дуру ещё раз обозвал всех «бэздэлниками», развернул свою «Волгу», издал чёрный едкий выхлоп газом и скрылся.
«Гитри-гитри-гитруна, Дуру!» – промелькнуло в моей голове.
День можно было назвать историческим, потому что оппозиция так и не вернулась в парламент, а через некоторое время в Тбилиси разразилась гражданская война. Увы, настоящая, с десятками жертв.
Пока нет, пока нет...
Как-то я беседовал с одной американской коллегой. Она изучала тексты, которые публиковались в «Комсомолке» под рубрикой «Алый парус». Её удивляла инфантильность советских людей. Дескать, большинство авторов – недетского возраста, а столько выспренности у них на темы любви. Я ничего не ответил, лишь вспомнил случай, о котором рассказал ей...
Поездом я направлялся в Тбилиси. В плацкарте компанию мне составили два абитуриента. Их сопровождал молодой человек постарше, как потом выяснилось, сотрудник одной из столичных газет. Все трое были из провинциального городка в западной Грузии; вполне возможно, приходились друг другу родственниками. Я был младше их – только-только перешёл в десятый класс. Молодой человек задавал своим подопечным вопросы «на засыпку», проверял знания. Иногда и мне удавалось вставить слово, раз даже удостоился похвалы: один из попутчиков сказал, что мне бы прямо сейчас в вуз поступать.
Пассажиры, находившиеся в плацкарте, доброжелательно поглядывали на компанию. Парнишки производили впечатление хорошо воспитанных и весёлых, журналист же выглядел вальяжным в своём костюме, галстуке, со сдержанными манерами. Ребята были с ним вроде на равных, но заметен был некоторый пиетет, который они испытывали к нему. В какой-то момент абитуриенты стали настаивать, чтобы Тенгиз (имя журналиста) поделился чем-нибудь из своего творчества. Тот несколько помялся, но потом согласился.
Его рассказик показался романтичным. В купированном вагоне ночного поезда юноша путешествовал с незнакомкой. У неё была томная повадка: «говорила размеренно, движения рук, мимика – плавные и замедленные». Юноша уступил даме нижнюю полку. Несомненно, он проникся к ней симпатией. Наступило время отхода ко сну. В какой-то момент она попросила его удалиться в коридор. Он стоял в коридоре и смотрел в окно. Мимо проносился ночной пейзаж, а в голове под стук колёс звучало: «Пока нет, пока нет...» Ночью он ворочался на верхней полке, томился от того, как ритмично стучало в голове: «Пока нет, пока нет!» Рассказ кончился тем, что девушку на перроне встретила многочисленная родня. Так и расстались ни с чем.
Зрители похвалили автора. Некоторые женщины даже умилились рассказу. Он подкупал невинностью. Времена были «строгие» – 60-е годы, аудиторию составляли женщины, провинциалки с традиционным воспитанием. Я, тинейджер, вторил им, а абитуриенты сияли от гордости за своего родственника. Фразу-рефрен слушатели приняли как нечто само собой разумеющееся. Никто не усмотрел в ней двусмысленности...
Кстати, я первый раз тогда воочию увидел писателя.
Кончив своё повествование, я вопрошающе посмотрел на коллегу-американку, которая немного поморщилась.
– Очередный опус в духе «Алого паруса», – отрубила она. Потом признала, что автор, впрочем, хорошо передал навязчивый мотив, идущий от репрессивной культуры.
– Ритмично и исподволь!
Кокомотэ
Племянник Наполеона изучал английский. Дядюшка помогал ему. Однажды парнишка пересказывал текст... Мальчик-бушмен по имени Утэтэ жил недалеко от заповедника, где работал его отец, который по версии племянника пас там носорогов. Дядюшка не стал исправлять неточность насчёт носорогов и их пастуха, ибо пребывал под впечатлением от столь экзотичного имени африканского парубка. Другое то, что в тот момент Напо связал это имя с инфантильной речью соседского ребёнка. Ему было четыре года, а он только одно талдычил: «Кокомотэ, кокомотэ!» Это слово обозначало все доступные сознанию парнишки явления, варьировалось только эмоциональное наполнение: плача или смеясь, он нараспев произносил своё «Кокомотэ»... «Звучит, как Утэтэ», – сделал про себя заключение Напо.
В тот день тема получила неожиданное развитие. Вечером к Наполеону зашёл дальний родственник. За лекарством. Этот тип отличался ипохондрическим характером и лечил свои многочисленные недуги исключительно дорогими и редкими лекарствами, к коим Наполеон, как провизор, имел доступ. В этот вечер гость, верный себе, много говорил о своих болячках. А потом начал разглагольствовать о том, чем болел Наполеон Бонапарт, о том, сколько раз император пытался покончить жизнь самоубийством. Провизор досадовал от того, что каждый раз собеседник для пущей убедительности направлял на него свой взгляд.
Напо Спиридонович попытался замять неловкую ситуацию, заметив мягко:
– На моё счастье я не столь амбициозен, как мой тёзка!
Ипохондрик понял намёк и затих. В это время по телевизору показывали цирковое представление. Напо смеялся проделкам клоуна. Гость не разделял его веселье. Ему вдруг вспомнился фильм: самые мрачные эпизоды апокалипсиса, которые увековечивали кадры двух танцующих марионеток – мужчины и женщины. Они танцевали не под музыку, а под ритм «весьма идиотской фразы» (выражение, к которому прибег рассказчик): «Тэтэ-матэтэ, тэтэ-матэтэ». Тут Напо покраснел; «фраза» ассоциировалась у него с именем мальчугана-бушмена и речью косноязычного соседского мальчика: «Тэтэ-матэтэ…утэтэ…кокомотэ». Вдруг с экрана телевизора донеслась команда дрессировщика тигров: «Патэ!!» Провизор даже подскочил, так зычно это прозвучало.
«Тэтэ-матэтэ, кокомотэ, Утэтэ, патэ!» – чуть было не выпалил он.
Напо стал замечать, что в городе появилось много африканцев. Сплошь крепкие, молодые люди. Ходил миф, что все они – футболисты. Как-то в зимнюю пору он стоял у дверей аптеки, наблюдая за чернокожими молодыми парнями, что толпились у входа в продуктовый магазин. Один из них был в одной сорочке. «В такой холод!» – промелькнуло в голове у Напо. У его сестры недавно умер свёкр, и у провизора промелькнула благая мысль, что можно было раздать оставшуюся одежду мигрантам. Он бросился звонить сестре. Она долго не могла понять, о каких неграх говорит её брат, и какое отношение к африканскому футболу мог иметь покойный свёкр. Сказалась манера Напо говорить тихо, скромно («мямлить», по словам сестры).
Когда Напо вышел на улицу, негры, двинувшись с места, проходили мимо, лопоча на своём языке. Один из них нёс пакет с сахаром. «Четыре парня ждали, пока пятый купит кило сахара, а теперь, наверное, на суахили обсуждают покупку», – вёл внутренний монолог аптекарь. Неожиданно для себя на английском он спросил проходивших мимо, не футболисты ли они.
–Да! Да!! – ответили те хором с такой готовностью, словно чтоб не дать повода заподозрить их в том, что они – нелегальные мигранты.
«Интересно, есть ли среди них парень по имени Утэтэ», – подумал аптекарь.
Но вот после некоего случая Напо перестал проявлять любопытство к мигрантам из Африки...
Он стоял у выхода метро «Проспект Руставели». Ждал меня. Мой приятель пришёл вовремя, я же запаздывал. Напо не терял зря время и рассматривал прохожих. Тут его внимание привлёк один негритянский юноша. Тот точно не был футболистом: клянчил деньги, попрошайничал. На посредственном грузинском языке мигрант живописал, что голоден, что хочет собрать деньги на билет на самолёт, чтобы улететь домой. Народ проходил мимо и на спичи чернокожего парня не реагировал.
Напо стал анализировать ситуацию. Этот тип выбрал невыгодную позицию. Сзади стоявшего парня находилось большое пространство, в глубине которого располагались скамейки, на них сидели довольно привлекательные девицы. Здорового с виду попрошайку это пространство поглощало. «Таким образом, – рефлексировал провизор, – внимание людей к его особе не могло быть акцентированным».
Он подошёл к парню, подал ему двадцать тетри и на английском посоветовал встать у парапета: дескать, там тень и ещё... Далее последовали рассуждения о неудачной тактике попрошайки. Молодой человек повиновался, но Напо не был уверен, что был полностью понят. Негр двусмысленно, с интересом смотрел на малого роста, полноватого, с рыжими волосами и веснушками мужчину. Чем больше старался казаться вежливым мой приятель, тем больше подозрения выказывал по отношению к нему темнокожий.
Напо был доволен своим открытием, почти гордился: «Да, у меня талант к попрошайничанию!» Мой приятель расплылся в улыбке; ему вспомнилось, как наградил аналогичным комплиментом Кису Воробьянинова Остап Бендер. Провизор не переставал наблюдать за негром. У того «бизнес» вроде наладился – несколько прохожих вняли его мольбам-просьбам. Напо даже забыл, зачем, собственно, находился у выхода метро. Он опять подошёл к молодому человеку. Хотел спросить его об успехах и ещё... имя. Негр смотрел откровенно сально и с вызовом. Но имя своё назвал: Фердинанд.
«Да, имя нордическое, совсем не африканское, как Утэтэ», – усмехнулся про себя Напо. В этот момент к киоску неподалеку подошёл другой негр. Судя по его поведению и аккуратной одежде, он был более успешным – может быть, действительно играл в футбол за какую-нибудь местную команду. Африканцы обменялись фразами на своём языке. При этом оба с гадким интересом поглядывали на «местного». Наполеон уже догадывался, за кого его принимают. Когда «футболист» ушёл, он бросил ещё двадцать тетри в лапу негра и спросил, о чем тот говорил с земляком. Попрошайка отреагировал нагло, заявив, что «те дела» (здесь он сделал неприличный жест) могут стоить гораздо дороже – двадцать лари. Напо вспыхнул и внутренне вскипел. Впрочем, он не знал, как поступить в такой щекотливой ситуации. Сжал свои белые, покрытые веснушками кулачки. Побить мигранта?! Негр быстро смекнул, что оплошал, и быстро ретировался – ушёл в сторону проспекта.
Когда я подошёл к приятелю, тот стоял растерянный и красный. Напо мямлил абракадабру типа: «Утэтэ, кокомотэ, тэтэ-матэтэ, патэ...»
«Браво, Кук-к-к-у-р-рыч!»
Один грузинский футболист попал в книгу рекордов Гиннеса. В течение шести часов он без остановки жонглировал мячом – причём, головой. И не только жонглировал, но и вёл разговоры с членами специальной комиссии. Говорят, рекордсмен даже умудрился при том сходить по малой нужде. Мяч, как заворожённый, продолжал прыгать на его черепе.
Кстати, этот футболист другими футбольными достоинствами не отличался.
Мой одноклассник Вано был чем-то похож на этого субъекта. Он тоже мог выкинуть нечто на баскетбольной площадке. Однажды в городском зале, где шёл турнир, Вано произвёл сенсацию. Но сделал это не во время игры, а в промежутке между матчами, когда нетерпеливым зрителям дают порезвиться на площадке. Во всеобщей возне участвовал и Андро. Пользуясь своим почти двухметровым ростом, он с лёгкостью подбирал мячи, отскакивающие от щита: сам не бросал, а великодушно отдавал кому-нибудь из мальчишек, которым было несподручно бороться под кольцом.
В один момент Андро выудил из толпы Вано, невысокого паренька в очках. Получив мяч, тот отступил к самой середине площадки и по высокой траектории послал мяч в сторону кольца. Всплеск сетки кольца, точное попадание! А мяч – снова у Вано: после лёгкой оторопи в зале ему безропотно уступили очередь на бросок. На сей раз он подошёл к щиту поближе и с отскоком от пола послал мяч в кольцо... «Браво, Кук-к-к-у-р-рыч!» – крикнул на весь зал Гио, слегка придурковатый малый. Дело в том, что Вано по отчеству был Кукурьевич, что приводило Гио в восторг. Произносить «Кук-к-к-у-р-рыч!» доставляло ему удовольствие.
Во время игры Вано был не столь расторопен. Вроде бы тренировался много, даже тик у него был: периодически, не ко времени и месту воздевал правую руку и прищуривался – имитировал бросок. На площадке, получив мяч, Вано начинал суетиться – «телиться», как говорил тренер. Раз, потеряв ориентацию, он врезался с мячом в судейский столик, опрокинув его. А однажды попытался сделать свой коронный бросок с середины площадки, но не попал даже в щит, угодив мячом в физиономию одного из зрителей. «Чтоб не смешить гусей» (выражение тренера), Вано не оставили в составе.
Держать в моей памяти Вано особого резона не было. Я уехал из городка, перебрался в Тбилиси, а потом и в Москву. Ездил много. Названия многочисленных городов и городков смешались в моём сознании. Сохранились лишь эпизоды. Так вот, в одном сибирском городишке мне выпал случай вспомнить своего одноклассника... Пока ехал из районного центра в этот город в полупустом пазике, познакомился с одной миловидной особой... А по дороге к гостинице наблюдал похоронную процессию. Красный гроб, неестественно яркие в солнечный морозный день искусственные цветы и серого цвета покойник. «Угорел от водки, окаянный!» – расслышал я комментарий старушки, что стояла рядом...
Ольга, знакомая из автобуса, навестила меня в гостиничном номере. Она долго не называла свою фамилию. «Помните, у Чехова? Есть у него рассказ «Лошадиная фамилия»…» «Кукури!» – всплыло в памяти. В Грузии таким именем называют не только мальчиков, но и лошадей. «У моего одноклассника было лошадиное отчество», – заметил я гостье...
…Я женился в третий раз. Новая жена была из мормонского штата Юта (USA). При нашей первой встрече я поинтересовался, не мормонка ли она, на что последовало: «Прозелитизмом не занимаюсь!»
Вчера со мной произошло нечто несуразное. Я был на баскетбольном матче. Играли «Юта Джаз» и «Атланта Хоукс». В перерыве между таймами массовик-затейник предложил зрителям разыграть пятьсот баксов. Для этого надо было забросить мяч с центра площадки. Желающих набралось много. И вот из толпы отделился невысокий белый мужчина в очках, наверное, моего возраста. Он уверенно взял мяч в руки и мощно бросил. Точно!!
– Браво, Кук-к-ку-р-рыч!! – вырвалось вдруг у меня.

Диана АСНИНА
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
Однажды во время урока (я преподаватель сольфеджио в музыкальной школе), когда мои ученики писали контрольную работу по теории, перед моими глазами появился какой-то текст. Я взяла бумагу, ручку и записала то, что прочла. Так появилась моя первая новелла. С тех пор я пишу. Автор книг: «Новеллы» (2010 г.), «Можете несерьёзно» (2011 г.), «А за поворотом…» (2014 г.), «Возьмите его замуж» (2017 г.), «А жаль» (2021 г.). Регулярно публикуюсь в альманахах «Притяжение», «Горизонт». Член МГО Союза писателей России. Член литературного объединения «Арт-салон Фелисион» при Нотно-музыкальной библиотеке им. П.И. Юргенсона. Почётный работник культуры г. Москвы.
МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ НАДО?
Много ли человеку надо для счастья? Ну, это кому как. Кому-то хочется иметь много денег, возможность ездить по белу свету, ни в чем себя не ограничивая. Другому необходимо признание, возможность реализовать себя. Третьему – чтобы его родные и близкие были здоровы, успешны. Кто-то мечтает о большей любви. Четвертому, пятому…
У каждого – свое представление о счастье. Да и что хорошо одному, не всегда хорошо другому.
– Наконец-то я дождалась своего счастья! – воскликнула внучка моей подруги, когда ей подарили маленького пушистого котенка.
Что только она с ним не вытворяла: тискала, целовала, закутывала в одеяльце, укладывала спать в игрушечную коляску, выгуливала на поводке, как собачку. Доставляло ли это удовольствие котенку? Ему хотелось одного: чтобы его оставили в покое.
У нас была большая и дружная семья. Особого достатка не было. Но сколько любви, тепла, уважения! Это ли не счастье? Правда, понимаешь это потом, когда все позади.
Встречаю я свою бывшую одноклассницу.
– Как ты? Что ты? – спрашивает она меня.
– У меня все хорошо, – отвечаю я ей. – Занимаюсь любимым делом: учу детей музыке.
– Хорошо зарабатываешь?
– Мне хватает.
– А кто твой муж?
– Мы давно разошлись. Это самое разумное, что могли сделать. Мы очень разные, как говорят, не сошлись характерами. Но отношения сохранили нормальные.
– Он тебе помогает?
– Я что, без рук-без ног? На дочь деньги дает.
Она с сочувствием на меня посмотрела.
– А что делает твоя дочь?
– Готовится к поступлению в университет. На искусствоведческое собирается. Дай Бог, чтобы все у нее получилось.
– Какая же ты юродивая! – вдруг заявила она. – Всю жизнь была нищей и хочешь, чтобы дочь тоже нищей была. Вот я окончила юрфак, работаю в крупной фирме. Муж, дети бизнесом занимаются. Мы весь мир объездили, на каких только курортах не были. Я ни в чем себе не отказываю. Недавно такую шикарную шубу купила из шиншиллы. А вчера мы ездили на дачу к Люсе Щербицкой на шашлыки. Люся хорошо устроилась: ее муж – директор гастронома. Так классно оттянулись!
Она смотрела на меня, убогую, с жалостью, а я – на нее. Иметь деньги – это совсем неплохо. Деньги – это необходимость, без них нельзя обойтись, осуществить задуманное. Но деньги – это еще не все. Они не могут заменить душевное тепло, доброту, верность, любовь. Я хочу, чтобы мой ребенок получал удовольствие не только от вкусной еды и тряпок, которые на себя нацепил, а от прочитанной книги, музыки, живописи, общения с природой. Я хочу, чтобы у дочери моей были верные друзья, любящий муж, чтобы она встречалась с интересными людьми, чтобы она была счастлива.
Через несколько лет я снова встречаю Галю. Постаревшая, больная – перенесла инсульт, еле ходит. Муж бросил ее, нашел себе молодую, здоровую. Сын… у него своя семья. Невестка… доброго слова не стоит. Дочь занята устройством своей жизни. Ну и что, деньги сделали Галю счастливой?
Есть люди, которым всегда все плохо. Хотя видимых причин для жалоб у них нет. И есть люди, которые в любой ситуации умеют находить положительные моменты.
Говорят, пессимист – тот же оптимист, только лучше информированный. Может быть. Но все же…
– Софья Михайловна, как Вы, как Андрей Яковлевич? – спрашиваю я соседку.
– Ой, не спрашивайте, – отвечает она плачущим голосом. – Дед совсем плох. Давление запредельное. Что будет, когда его не станет?
– Софья Михайловна, Андрей Яковлевич, конечно, больной человек, – пытаюсь я успокоить ее, – но он еще умирать не собирается: следит за событиями, происходящими в мире, много читает. Вот вчера попросил меня принести ему последний номер «Иностранной литературы».
– Это все так. Он старается не поддаваться болезни. Жалеет меня. Делает вид, что чувствует себя лучше. Но я-то знаю, как ему плохо. «Дед, ты только не умирай!» – говорю я ему. А он улыбается через силу и отвечает: «Туда я еще успею».
– Вот видите: он у Вас – молодец. И Вы тоже держитесь. Андрей Яковлевич рядом с Вами, он Вас любит, старается не огорчать. Радуйтесь этому.
Человек не может чувствовать себя счастливым постоянно. Жизнь многогранна, а счастье – это состояние души.
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ…
Жизнь пролетела, как мгновение.
Вот только-только пошла в школу. Не успела оглянуться, как уже выпускной вечер. Дети, родители, учителя – все такие красивые, нарядные. Цветы, улыбки, теплые слова... А на прощанье взмывают в небо белые голуби, унося в лапках записки с просьбами детей об исполнении желаний.
А незабываемые студенческие годы… Они так стремительно пронеслись!
Первая любовь, первое свидание, первый поцелуй… Остались лишь воспоминания. Воспоминания... Что может быть дороже?
Голубое небо. Щебет птиц. Пьянящий запах свежескошенной травы. И полусумасшедшая от счастья пара (мы с тобой!) бредет по лугу. Куда? А не все ли равно. Нам так хорошо вместе! Я вижу твои сияющие глаза, руки, губы, слышу твой голос... Как прекрасен этот мир! И пока я жива, ты – со мной.
Я кормлю ребенка грудью. Из приемника доносится:
«Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.
Как прекрасен этот мир,
Посмотри!»
Малышка причмокивает от удовольствия губами, кладет руку мне на грудь: «Мое! Не отдам!» и, насытившись, засыпает.
Первые шаги, первые слова...
– Мамочка, ты меня любишь?
– Люблю.
– И я тебя люблю. Значит, мы любимся.
Вот оно – счастье!
Вы видели когда-нибудь рассвет из иллюминатора? Незабываемое зрелище! Огромная половина горячего солнца и нимб над ним, как над головами святых на иконах, движется рядом с самолетом. Откуда иконописцы могли увидеть нимб?
Я прилетела в Армению. Март месяц. В воздухе пахнет весной. Все – в зелени. И снежные, как будто нарисованные, горные вершины. Впервые в жизни увидела цветущее персиковое дерево. Несомненно, Ноев ковчег причалил у горы Арарат.
Остановись, мгновенье!
А Ниагарский водопад… Захватывающее зрелище. Мощные водные потоки стремительно льются с горы вниз, шумят и обладают неимоверной силой! На прогулочном кораблике, закутавшись в непромокаемые плащи и накидки, можно приблизиться к водопаду. Пройдя по галерее под водопадом к его основанию, в полной мере ощущаешь всю мощь и красоту стихии. Ты – песчинка перед грозными силами природы.
Почему мы торопили время? Нам всегда было некогда. Я должна все успеть. Мне надо сделать то-то и то-то… Все откладывалось на потом. Даже поговорить толком с близкими людьми было некогда. Почему лишний раз не сказать: «Люблю тебя», не прижать к сердцу дорогого, любимого человека? Задним числом понимаешь: надо было дорожить каждым мгновением счастья, ценить моменты, когда были вместе, понимать, что может так получиться, что однажды этого человека уже не будет рядом. Но…
Человек не может жить лишь одними воспоминаниями. И сколько бы ему ни было лет, он должен жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым мгновением, дарованным судьбой.
Папа мой, когда вышел на пенсию, очень переживал, чувствовал себя уже никому не нужным.
– Я стал тыбиком («Ты бы пошел…», «Ты бы сделал…»), – с горечью говорил он.
И вдруг он увлекся чеканкой. У него началась новая интересная жизнь. Он выставлял свои работы на выставках, дарил чеканки друзьям. Он ожил.
Мама моя была очень умным человеком, яркой личностью.
– Я создала свой внутренний мир и не хочу в него впускать негатив. Я хочу радоваться ласковому солнышку, зеленым листьям, теплому морю… Я люблю людей. У меня хорошая семья. В жизни так много интересного!
А тетушка моя в свои шестьдесят восемь лет неожиданно для всех и для себя самой влюбилась так, как, по ее словам, в молодости не влюблялась. Нужно было видеть, как она сразу помолодела: глаза горят, улыбка не сходит с ее лица. Это – жизнь!
Я давно уже могла выйти на пенсию и не работать. Но поняла, что пока я чувствую, что могу еще приносить пользу, что нужна своим ученикам, буду работать. Работа дисциплинирует, она заставляет, как бы ты себя ни чувствовал, взять себя в руки – одеться, забыть о своих болячках и заниматься делом. Ты нужен.
Хочу заново перечитать свои любимые книги, походить на концерты в консерваторию, на выставки в Пушкинский музей, Третьяковку. Хочу повидать мир. Я так мечтала в детстве побывать на карнавале в Рио-де-Жанейро…
Мы не знаем, что нас ждет впереди. И, может быть, это хорошо. Так интересней жить. Но что получается: прошлое ушло, будущее – неизвестно. Давайте же жить настоящим: радоваться всему, что у нас есть, что мы живы, что с нами наши близкие, что еще есть силы работать, возиться с внуками, открывать для себя что-то новое.
СИЛА ИСКУССТВА
– Ну вот, даже в воскресенье не дают поспать! Надо будет на ночь отключать телефон. Не буду брать трубку.
А телефон все трезвонил и трезвонил.
– И кому это я понадобилась в такую рань?
– Яник, поздравь нас: Андрюша поступил в Томский университет на мехмат, – радостно кричала в трубку кузина.
– Молодец, мальчик! Очень за него рада. Успехов ему.
– Яночка, мы хотим сделать ему подарок: отправить на неделю к тебе. Он ведь в Москве ни разу не был. Может быть, Игорек выкроит время, поводит его по городу.
– Не волнуйся: встретим, приласкаем, покажем Москву. Да и мальчишкам не мешает поближе познакомиться, подружиться.
Андрюшу я видела всего один раз, когда мы с Галиной и детьми отдыхали в Крыму. Ему тогда было шесть с половиной лет. Это был худенький, светловолосый, очень подвижный, любознательный мальчик. Игорек – постарше. Он уже перешел во второй класс и на брата смотрел, как на малявку. Сейчас Андрей выше Игоря на полголовы, рост – метр восемьдесят шесть; спортивный, улыбчивый. С Игорем они сразу нашли общий язык и отправились гулять по городу.
В один из дней, когда сын был занят, я предложила Андрюше пойти с ним в Третьяковскую галерею. Я видела, что Андрей не в восторге от моего предложения. Это и понятно: идти с тетей в музей… Но выбора у него не было.
Третьяковка… Каждый раз, приходя сюда, я чувствую себя обновленной. Я люблю постоять у понравившейся картины, почувствовать ее, побыть с ней наедине и очень не люблю, когда мне мешают. Считая, что и Андрею необходимо то же самое, я пустила его в свободное плавание. Каково же было мое удивление, когда через десять минут он подошел ко мне и сказал:
– Чего это Вы стоите у этой картины? Я уже все обошел. Пошли куда-нибудь.
Я так и ахнула.
– Дорогой, вот видишь, идет экскурсия. Примкни к ней.
Сама я экскурсии не люблю, но в данном случае это было необходимо. Недовольный Андрей не посмел возразить (он был хорошо воспитанным мальчиком) и пристроился сзади.
– Нет, так дело не пойдет. Давай-ка в первый ряд и внимательно слушай экскурсовода.
Через час, когда Андрей решил, что его мучения кончились, и мы наконец покинем Третьяковку, я предложила ему еще раз пройтись с другим экскурсоводом, которая, на мой взгляд, была просто великолепной. Даже я, которая Третьяковку изучила вдоль и поперек, примкнула к этой группе. Андрюше ничего не оставалось, как прослушать лекцию еще раз. Представляю себе, как он был на меня зол.
Наконец мы покинули музей и пошли в «Шоколадницу».
На прощанье я подарила Андрюше книгу «Третьяковская галерея». Он так на меня посмотрел, что я подумала: сейчас убьет.
Вечером мне позвонила сестра:
– Андрей приехал довольный! Спасибо тебе.
– Небось, ругает меня последними словами.
И я рассказала ей о нашем походе в Третьяковку.
– Как ты, филолог, шеф-редактор на радио, не привила сыну любовь к живописи, музыке?
– Янка, мы же с мужем с утра до вечера на работе, а детьми занимается бабушка. Главное, ребята покормлены, присмотрены, обласканы.
– Нет, этого недостаточно. Я тут была на лекции-концерте в музее Глинки. Одна девушка пришла с парнем. Так он все время ее дергал: «Скоро конец? Неужели тебе это интересно? Пошли отсюда». Она, бедная, сгорала от стыда. Объясни сыну, что ни одна приличная девушка не будет с ним встречаться, неинтересен будет.
– Андрюша умный, доберет то, чего недополучил. Мы тебе на каникулы будем его присылать. Вот ты и будешь его развивать, – смеется Галина. – А он от тебя в восторге, говорит: настоящая интеллигентка.
– Неправда, он считает меня занудой и мымрой.
– Но книгу твою изучает.
«Я С ЖЕНЩИНОЙ РАЗГОВАРИВАЮ…»
– Куда ты прёшь, бабка? – кричит разъярённый водитель автомобиля.
Почему «бабка»? Я, конечно, не молодая женщина, но «бабка», да ещё «прёшь» звучит оскорбительно. Кстати, я перехожу улицу по «зебре», где машины должны пропускать пешеходов. А вот откуда ты, хам, выскочил и куда несёшься, – вопрос.
Как же много у нас хамов развелось! И мы к этому привыкли. И, когда встречаешь нормальное человеческое отношение, воспринимаешь, как что-то особенное.
При выходе из метро у меня что-то «вступило» в спину. Еле-еле, согнувшись в три погибели, плетусь я к дому. Только дойти бы.
Навстречу мне идёт подвыпивший мужичок.
– Мать, – (тоже мне – сынок!), – что это ты так идёшь? – спрашивает он меня.
– Да вот, спину прихватило, – отвечаю ему.
– Ты где живёшь? Давай, я тебя провожу, – предлагает он.
Только этого мне не хватало!
– Да нет, спасибо, как-нибудь сама доплетусь.
– Ты что, мать, мы же люди, мы должны друг другу помогать! – уговаривает он меня.
– Спасибо, но мне уже лучше. Дойду.
В этот момент у него зазвонил мобильник. Его разыскивают родные, волнуются, что он долго отсутствует.
– Да принесу, принесу я вам ваше молоко, – кричит он в трубку. – Никуда я не пропал: я – с женщиной, – (выделил он голосом), – разговариваю.
Надо же: то была «бабка», а теперь – «женщина».
А на днях я возвращаюсь домой и не могу попасть в подъезд. Рабочие чистили крышу и завалили снегом крыльцо и все подступы к нему. Сугробы – в человеческий рост. Спрашиваю, когда дорожку расчистят, и слышу в ответ:
– Наше дело – сбросить снег с крыши, а когда дворник его уберёт, не знаем.
Что делать? Как попасть в подъезд? Холодно… Я устала. Присесть негде.
Вижу, дверь слегка приоткрывается, и в щелочку протискивается худенький паренёк. Показывая чудеса акробатики, он выбирается из этого завала.
– Молодой человек, Вы мне не поможете войти в подъезд? – прошу я его.
С трудом парень втащил меня на ступеньку и… Мы падаем в сугроб. Лежу я с молодым человеком в снегу (дожила на старости лет!) и думаю: «Не выбраться нам отсюда».
Но парень как-то изловчился и вылез из завала. А я при малейшем движении всё глубже погружаюсь в снег.
– Ну, всё, – говорю, – видно, так в сугробе и останусь.
Парень смеётся:
– Сейчас я Вас вытащу.
– Тяжёлая я, – говорю я ему. – Не сможешь меня ты поднять. Зови кого-нибудь на помощь.
– Ну, нет, это уже дело чести, – отвечает парень.
Извлёк он меня из сугроба и на руках занёс в подъезд.
Это надо же: на старости лет и повалялась с парнем в сугробе, и на руках меня носили.
Да… Чего только в жизни не бывает!
Много ли человеку надо для счастья? Ну, это кому как. Кому-то хочется иметь много денег, возможность ездить по белу свету, ни в чем себя не ограничивая. Другому необходимо признание, возможность реализовать себя. Третьему – чтобы его родные и близкие были здоровы, успешны. Кто-то мечтает о большей любви. Четвертому, пятому…
У каждого – свое представление о счастье. Да и что хорошо одному, не всегда хорошо другому.
– Наконец-то я дождалась своего счастья! – воскликнула внучка моей подруги, когда ей подарили маленького пушистого котенка.
Что только она с ним не вытворяла: тискала, целовала, закутывала в одеяльце, укладывала спать в игрушечную коляску, выгуливала на поводке, как собачку. Доставляло ли это удовольствие котенку? Ему хотелось одного: чтобы его оставили в покое.
У нас была большая и дружная семья. Особого достатка не было. Но сколько любви, тепла, уважения! Это ли не счастье? Правда, понимаешь это потом, когда все позади.
Встречаю я свою бывшую одноклассницу.
– Как ты? Что ты? – спрашивает она меня.
– У меня все хорошо, – отвечаю я ей. – Занимаюсь любимым делом: учу детей музыке.
– Хорошо зарабатываешь?
– Мне хватает.
– А кто твой муж?
– Мы давно разошлись. Это самое разумное, что могли сделать. Мы очень разные, как говорят, не сошлись характерами. Но отношения сохранили нормальные.
– Он тебе помогает?
– Я что, без рук-без ног? На дочь деньги дает.
Она с сочувствием на меня посмотрела.
– А что делает твоя дочь?
– Готовится к поступлению в университет. На искусствоведческое собирается. Дай Бог, чтобы все у нее получилось.
– Какая же ты юродивая! – вдруг заявила она. – Всю жизнь была нищей и хочешь, чтобы дочь тоже нищей была. Вот я окончила юрфак, работаю в крупной фирме. Муж, дети бизнесом занимаются. Мы весь мир объездили, на каких только курортах не были. Я ни в чем себе не отказываю. Недавно такую шикарную шубу купила из шиншиллы. А вчера мы ездили на дачу к Люсе Щербицкой на шашлыки. Люся хорошо устроилась: ее муж – директор гастронома. Так классно оттянулись!
Она смотрела на меня, убогую, с жалостью, а я – на нее. Иметь деньги – это совсем неплохо. Деньги – это необходимость, без них нельзя обойтись, осуществить задуманное. Но деньги – это еще не все. Они не могут заменить душевное тепло, доброту, верность, любовь. Я хочу, чтобы мой ребенок получал удовольствие не только от вкусной еды и тряпок, которые на себя нацепил, а от прочитанной книги, музыки, живописи, общения с природой. Я хочу, чтобы у дочери моей были верные друзья, любящий муж, чтобы она встречалась с интересными людьми, чтобы она была счастлива.
Через несколько лет я снова встречаю Галю. Постаревшая, больная – перенесла инсульт, еле ходит. Муж бросил ее, нашел себе молодую, здоровую. Сын… у него своя семья. Невестка… доброго слова не стоит. Дочь занята устройством своей жизни. Ну и что, деньги сделали Галю счастливой?
Есть люди, которым всегда все плохо. Хотя видимых причин для жалоб у них нет. И есть люди, которые в любой ситуации умеют находить положительные моменты.
Говорят, пессимист – тот же оптимист, только лучше информированный. Может быть. Но все же…
– Софья Михайловна, как Вы, как Андрей Яковлевич? – спрашиваю я соседку.
– Ой, не спрашивайте, – отвечает она плачущим голосом. – Дед совсем плох. Давление запредельное. Что будет, когда его не станет?
– Софья Михайловна, Андрей Яковлевич, конечно, больной человек, – пытаюсь я успокоить ее, – но он еще умирать не собирается: следит за событиями, происходящими в мире, много читает. Вот вчера попросил меня принести ему последний номер «Иностранной литературы».
– Это все так. Он старается не поддаваться болезни. Жалеет меня. Делает вид, что чувствует себя лучше. Но я-то знаю, как ему плохо. «Дед, ты только не умирай!» – говорю я ему. А он улыбается через силу и отвечает: «Туда я еще успею».
– Вот видите: он у Вас – молодец. И Вы тоже держитесь. Андрей Яковлевич рядом с Вами, он Вас любит, старается не огорчать. Радуйтесь этому.
Человек не может чувствовать себя счастливым постоянно. Жизнь многогранна, а счастье – это состояние души.
ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ…
Жизнь пролетела, как мгновение.
Вот только-только пошла в школу. Не успела оглянуться, как уже выпускной вечер. Дети, родители, учителя – все такие красивые, нарядные. Цветы, улыбки, теплые слова... А на прощанье взмывают в небо белые голуби, унося в лапках записки с просьбами детей об исполнении желаний.
А незабываемые студенческие годы… Они так стремительно пронеслись!
Первая любовь, первое свидание, первый поцелуй… Остались лишь воспоминания. Воспоминания... Что может быть дороже?
Голубое небо. Щебет птиц. Пьянящий запах свежескошенной травы. И полусумасшедшая от счастья пара (мы с тобой!) бредет по лугу. Куда? А не все ли равно. Нам так хорошо вместе! Я вижу твои сияющие глаза, руки, губы, слышу твой голос... Как прекрасен этот мир! И пока я жива, ты – со мной.
Я кормлю ребенка грудью. Из приемника доносится:
«Ты проснешься на рассвете,
Мы с тобою вместе встретим
День рождения зари.
Как прекрасен этот мир,
Посмотри!»
Малышка причмокивает от удовольствия губами, кладет руку мне на грудь: «Мое! Не отдам!» и, насытившись, засыпает.
Первые шаги, первые слова...
– Мамочка, ты меня любишь?
– Люблю.
– И я тебя люблю. Значит, мы любимся.
Вот оно – счастье!
Вы видели когда-нибудь рассвет из иллюминатора? Незабываемое зрелище! Огромная половина горячего солнца и нимб над ним, как над головами святых на иконах, движется рядом с самолетом. Откуда иконописцы могли увидеть нимб?
Я прилетела в Армению. Март месяц. В воздухе пахнет весной. Все – в зелени. И снежные, как будто нарисованные, горные вершины. Впервые в жизни увидела цветущее персиковое дерево. Несомненно, Ноев ковчег причалил у горы Арарат.
Остановись, мгновенье!
А Ниагарский водопад… Захватывающее зрелище. Мощные водные потоки стремительно льются с горы вниз, шумят и обладают неимоверной силой! На прогулочном кораблике, закутавшись в непромокаемые плащи и накидки, можно приблизиться к водопаду. Пройдя по галерее под водопадом к его основанию, в полной мере ощущаешь всю мощь и красоту стихии. Ты – песчинка перед грозными силами природы.
Почему мы торопили время? Нам всегда было некогда. Я должна все успеть. Мне надо сделать то-то и то-то… Все откладывалось на потом. Даже поговорить толком с близкими людьми было некогда. Почему лишний раз не сказать: «Люблю тебя», не прижать к сердцу дорогого, любимого человека? Задним числом понимаешь: надо было дорожить каждым мгновением счастья, ценить моменты, когда были вместе, понимать, что может так получиться, что однажды этого человека уже не будет рядом. Но…
Человек не может жить лишь одними воспоминаниями. И сколько бы ему ни было лет, он должен жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым мгновением, дарованным судьбой.
Папа мой, когда вышел на пенсию, очень переживал, чувствовал себя уже никому не нужным.
– Я стал тыбиком («Ты бы пошел…», «Ты бы сделал…»), – с горечью говорил он.
И вдруг он увлекся чеканкой. У него началась новая интересная жизнь. Он выставлял свои работы на выставках, дарил чеканки друзьям. Он ожил.
Мама моя была очень умным человеком, яркой личностью.
– Я создала свой внутренний мир и не хочу в него впускать негатив. Я хочу радоваться ласковому солнышку, зеленым листьям, теплому морю… Я люблю людей. У меня хорошая семья. В жизни так много интересного!
А тетушка моя в свои шестьдесят восемь лет неожиданно для всех и для себя самой влюбилась так, как, по ее словам, в молодости не влюблялась. Нужно было видеть, как она сразу помолодела: глаза горят, улыбка не сходит с ее лица. Это – жизнь!
Я давно уже могла выйти на пенсию и не работать. Но поняла, что пока я чувствую, что могу еще приносить пользу, что нужна своим ученикам, буду работать. Работа дисциплинирует, она заставляет, как бы ты себя ни чувствовал, взять себя в руки – одеться, забыть о своих болячках и заниматься делом. Ты нужен.
Хочу заново перечитать свои любимые книги, походить на концерты в консерваторию, на выставки в Пушкинский музей, Третьяковку. Хочу повидать мир. Я так мечтала в детстве побывать на карнавале в Рио-де-Жанейро…
Мы не знаем, что нас ждет впереди. И, может быть, это хорошо. Так интересней жить. Но что получается: прошлое ушло, будущее – неизвестно. Давайте же жить настоящим: радоваться всему, что у нас есть, что мы живы, что с нами наши близкие, что еще есть силы работать, возиться с внуками, открывать для себя что-то новое.
СИЛА ИСКУССТВА
– Ну вот, даже в воскресенье не дают поспать! Надо будет на ночь отключать телефон. Не буду брать трубку.
А телефон все трезвонил и трезвонил.
– И кому это я понадобилась в такую рань?
– Яник, поздравь нас: Андрюша поступил в Томский университет на мехмат, – радостно кричала в трубку кузина.
– Молодец, мальчик! Очень за него рада. Успехов ему.
– Яночка, мы хотим сделать ему подарок: отправить на неделю к тебе. Он ведь в Москве ни разу не был. Может быть, Игорек выкроит время, поводит его по городу.
– Не волнуйся: встретим, приласкаем, покажем Москву. Да и мальчишкам не мешает поближе познакомиться, подружиться.
Андрюшу я видела всего один раз, когда мы с Галиной и детьми отдыхали в Крыму. Ему тогда было шесть с половиной лет. Это был худенький, светловолосый, очень подвижный, любознательный мальчик. Игорек – постарше. Он уже перешел во второй класс и на брата смотрел, как на малявку. Сейчас Андрей выше Игоря на полголовы, рост – метр восемьдесят шесть; спортивный, улыбчивый. С Игорем они сразу нашли общий язык и отправились гулять по городу.
В один из дней, когда сын был занят, я предложила Андрюше пойти с ним в Третьяковскую галерею. Я видела, что Андрей не в восторге от моего предложения. Это и понятно: идти с тетей в музей… Но выбора у него не было.
Третьяковка… Каждый раз, приходя сюда, я чувствую себя обновленной. Я люблю постоять у понравившейся картины, почувствовать ее, побыть с ней наедине и очень не люблю, когда мне мешают. Считая, что и Андрею необходимо то же самое, я пустила его в свободное плавание. Каково же было мое удивление, когда через десять минут он подошел ко мне и сказал:
– Чего это Вы стоите у этой картины? Я уже все обошел. Пошли куда-нибудь.
Я так и ахнула.
– Дорогой, вот видишь, идет экскурсия. Примкни к ней.
Сама я экскурсии не люблю, но в данном случае это было необходимо. Недовольный Андрей не посмел возразить (он был хорошо воспитанным мальчиком) и пристроился сзади.
– Нет, так дело не пойдет. Давай-ка в первый ряд и внимательно слушай экскурсовода.
Через час, когда Андрей решил, что его мучения кончились, и мы наконец покинем Третьяковку, я предложила ему еще раз пройтись с другим экскурсоводом, которая, на мой взгляд, была просто великолепной. Даже я, которая Третьяковку изучила вдоль и поперек, примкнула к этой группе. Андрюше ничего не оставалось, как прослушать лекцию еще раз. Представляю себе, как он был на меня зол.
Наконец мы покинули музей и пошли в «Шоколадницу».
На прощанье я подарила Андрюше книгу «Третьяковская галерея». Он так на меня посмотрел, что я подумала: сейчас убьет.
Вечером мне позвонила сестра:
– Андрей приехал довольный! Спасибо тебе.
– Небось, ругает меня последними словами.
И я рассказала ей о нашем походе в Третьяковку.
– Как ты, филолог, шеф-редактор на радио, не привила сыну любовь к живописи, музыке?
– Янка, мы же с мужем с утра до вечера на работе, а детьми занимается бабушка. Главное, ребята покормлены, присмотрены, обласканы.
– Нет, этого недостаточно. Я тут была на лекции-концерте в музее Глинки. Одна девушка пришла с парнем. Так он все время ее дергал: «Скоро конец? Неужели тебе это интересно? Пошли отсюда». Она, бедная, сгорала от стыда. Объясни сыну, что ни одна приличная девушка не будет с ним встречаться, неинтересен будет.
– Андрюша умный, доберет то, чего недополучил. Мы тебе на каникулы будем его присылать. Вот ты и будешь его развивать, – смеется Галина. – А он от тебя в восторге, говорит: настоящая интеллигентка.
– Неправда, он считает меня занудой и мымрой.
– Но книгу твою изучает.
«Я С ЖЕНЩИНОЙ РАЗГОВАРИВАЮ…»
– Куда ты прёшь, бабка? – кричит разъярённый водитель автомобиля.
Почему «бабка»? Я, конечно, не молодая женщина, но «бабка», да ещё «прёшь» звучит оскорбительно. Кстати, я перехожу улицу по «зебре», где машины должны пропускать пешеходов. А вот откуда ты, хам, выскочил и куда несёшься, – вопрос.
Как же много у нас хамов развелось! И мы к этому привыкли. И, когда встречаешь нормальное человеческое отношение, воспринимаешь, как что-то особенное.
При выходе из метро у меня что-то «вступило» в спину. Еле-еле, согнувшись в три погибели, плетусь я к дому. Только дойти бы.
Навстречу мне идёт подвыпивший мужичок.
– Мать, – (тоже мне – сынок!), – что это ты так идёшь? – спрашивает он меня.
– Да вот, спину прихватило, – отвечаю ему.
– Ты где живёшь? Давай, я тебя провожу, – предлагает он.
Только этого мне не хватало!
– Да нет, спасибо, как-нибудь сама доплетусь.
– Ты что, мать, мы же люди, мы должны друг другу помогать! – уговаривает он меня.
– Спасибо, но мне уже лучше. Дойду.
В этот момент у него зазвонил мобильник. Его разыскивают родные, волнуются, что он долго отсутствует.
– Да принесу, принесу я вам ваше молоко, – кричит он в трубку. – Никуда я не пропал: я – с женщиной, – (выделил он голосом), – разговариваю.
Надо же: то была «бабка», а теперь – «женщина».
А на днях я возвращаюсь домой и не могу попасть в подъезд. Рабочие чистили крышу и завалили снегом крыльцо и все подступы к нему. Сугробы – в человеческий рост. Спрашиваю, когда дорожку расчистят, и слышу в ответ:
– Наше дело – сбросить снег с крыши, а когда дворник его уберёт, не знаем.
Что делать? Как попасть в подъезд? Холодно… Я устала. Присесть негде.
Вижу, дверь слегка приоткрывается, и в щелочку протискивается худенький паренёк. Показывая чудеса акробатики, он выбирается из этого завала.
– Молодой человек, Вы мне не поможете войти в подъезд? – прошу я его.
С трудом парень втащил меня на ступеньку и… Мы падаем в сугроб. Лежу я с молодым человеком в снегу (дожила на старости лет!) и думаю: «Не выбраться нам отсюда».
Но парень как-то изловчился и вылез из завала. А я при малейшем движении всё глубже погружаюсь в снег.
– Ну, всё, – говорю, – видно, так в сугробе и останусь.
Парень смеётся:
– Сейчас я Вас вытащу.
– Тяжёлая я, – говорю я ему. – Не сможешь меня ты поднять. Зови кого-нибудь на помощь.
– Ну, нет, это уже дело чести, – отвечает парень.
Извлёк он меня из сугроба и на руках занёс в подъезд.
Это надо же: на старости лет и повалялась с парнем в сугробе, и на руках меня носили.
Да… Чего только в жизни не бывает!

Василий МОРСКОЙ
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года – в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
Василий Морской (Василий Михайлович Маслов) родился в Свердловске в 1959 году в семье военнослужащего. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова, командир гидрографического судна. С 1987 года – в Санкт-Петербурге, окончил военную адъюнктуру, кандидат технических наук. В 1992 году получил второе высшее образование, экономист, организатор банковского дела. Первую свою книжку «Морские рассказы» опубликовал в 2019 году. Являюсь номинантом премии «Писатель года-2019», член Союза писателей с 2021 года. В 2022 году вышла книга «Полным Ходом, или Морские рассказы 2.0». Имею пятерых детей, люблю спорт и рыбалку, много читаю и фотографирую, мечтаю сделать персональную фотовыставку и написать роман.
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ БОИНГ
Часть 1. Барсук по-американски
Дело было в августе 1983 года. Стояли в базе. Мы готовили гидрографическое судно «Армавир» к очередному походу на замену морских навигационных знаков в прибрежных водах Приморского края в Японском море. Эти работы были самые непопулярные. Ни тебе валюты (чеки, боны), ни тебе дальних морских надбавок – это я всё о прибавках к зарплате для экипажа, который в таком плавании получает так же, как если бы стояли у стенки в родном порту. Чистый каботаж (плавание вдоль побережья), ничего интересного. Гидрография флота обычно несёт ответственность за содержание и замену, если необходимо, буёв, знаков и прочих навигационных средств на своей территории. Судно практически было готово к плаванию: запасы получены, экипаж сформирован, оставались сущие мелочи.
В то время во Владивостоке, как иногда выражаются местные, «погоды шептали», а это значит, что ветра ещё не начались, и было очень тепло. На судоремонтном заводе нам полностью починили катер после удара волны цунами в бухте Валентин. Кузьмич, наш помощник командира по политической части, завёз новое кино. Как говорится, полная готовность к выходу.
Был поздний вечер пятницы 12 августа; я, как и подобает старшему помощнику командира судна, уехал домой последним, уже в десятом часу вечера, как говорят моряки, пошёл «на сход». В воскресенье я должен был заступить дежурным по дивизиону, поэтому в субботу мы с семьей собирались на городские пляжи покупаться, попрыгать с вышек в августовскую тёплую морскую воду – в общем, отдохнуть как следует.
Легли поздно, я сразу отрубился, и мне приснилось, как со скрипом открылась дверь в комнату, и старший сын Роман, которому было почти два годика, шёл, неуверенно ступая своими ножками, а в руке держал игрушечный деревянный молоточек. Шёл мой маленький сынок и стучал молоточком по стене, по тумбочке, по кровати, а стук – всё сильнее и сильнее. Я тянусь к нему: мол, что случилось? Почему так громко?! Бам! Бам! Бам! Когда стук молоточка стал невыносим, я проснулся и понял, что стучат в коридоре. Сразу вспомнил, как обещал починить звонок, но, как всегда, не хватило времени. Машинально глянул на будильник – 02.34 утра, что-то случилось! Выбежал в коридор в трусах, открыл дверь: там стоял незнакомый мне матрос-посыльный.
– Товарищ старший лейтенант, срочно прибыть на судно! Выход в море по тревоге! Машина внизу ждёт!
Выход по тревоге – ничего себе! Первый раз за два года! Всё, давай, бегом! Примчались на 36-й причал; народу – тьма; контр-адмирала Варакина, начальника гидрографической службы флота, я сразу заметил, кратко поприветствовал и поднялся на ходовой мостик. Акимов, командир «Армавира», коротко бросил мне:
– Пока не знаю, что за шухер, но в твоей каюте уже разместилась военная разведка, а у меня сидит кэгэбист, какая-то шишка! Готовь судно к выходу через тридцать минут! «Главные» уже готовы, слава богу, «дед» сегодня дежурит!
На простом русском языке это означало: что за причина тревоги, не говорят, но причина важная, судя по гостям. Главные двигатели к пуску готовы, потому что по судну дежурит старший механик, и он уже всё, что нужно, сделал.
Вот такая морская терминология; иногда со стороны ничего не понятно. Боцман зовётся «драконом», старший механик – «дедом», тонкий канат, на конце которого прикреплена свинцовая болванка, чтобы дальше летел, – «выброской», судовой врач – «доком», коротко и ясно! Вышли в море довольно быстро, уже в 04.00 я заступил на привычную для меня собачью вахту. Никто, конечно, не спал. На ходовом мостике собрались все офицеры. Капитан I ранга Королёв представился и коротко сказал:
– Товарищи, непосредственно вблизи границ наших территориальных вод, прямо в заливе Петра Великого, обнаружен фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) ВМС США «Badger», бортовой номер 1071! Цели прибытия этого грозного корабля не ясны. Нам поставлена задача слежения и сопровождения фрегата в период его нахождения вблизи наших границ! Я назначен старшим по операции слежения, командир судна отвечает лично за безопасность маневрирования и обеспечение работы группы военных разведчиков.
И он представил троих молчаливых молодцев в штатском.
– Да, мой помощник – мичман Сазонов! – из темноты ходового мостика шагнул к нам щуплый паренек в погонах старшего мичмана.
Да, про ходовой мостик: это – мозг любого корабля, где сосредоточены все органы управления кораблём, на ходу, в море. Здесь постоянно находится ходовая вахта: вахтенный капитан, вахтенный штурман, рулевой. Ходовой мостик расположен на самом верху корабельной надстройки, чтобы вахтенные могли осмотреть весь горизонт моря и всю обстановку вокруг. Все решения на любые действия принимаются тоже здесь, на ходовом мостике. На практике у него тоже есть свое сокращение, говорят по-простому: «на мосту».
Через полтора часа подошли к «Баджеру» (вы позволите его так называть, хотя в переводе с английского это означает «Барсук»). Ну, что это за название для фрегата УРО, подумал я, фрегат «Барсук»! Вот у нас названия красивые: «Строгий», «Стерегущий», а тут – «Барсук», ещё «Белкой» назовите! Ну да ладно! Подошли близко, кабельтовых пятнадцать, не больше (кабельтов – это одна десятая морской мили, то есть примерно 182,5 метра). Уже активно восходило солнце, и было хорошо видно, что пароход уже потрепанный, но выглядел ухоженным красавцем. У нас на мосту давно валялся справочник «JFS-1979». Это американский справочник по военно-морским флотам всех стран мира Janes Fighting Ships за 1979 год. Толстенный фолиант, где даже наш «Армавир» был указан и показан со всех сторон. Я прочитал: «…FF1071 Badger – заложен на судоверфи в Todd Pacific Shipyards (Сан Педро, Калифорния) 17.02.1968, спущен на воду 7.12.1968, вступил в строй 1.12.1970…»
13 лет, конечно, многовато, но такой срок службы для корабля – обычное дело.
– Старпом, подходите ближе! На пять кабельтовых! – Королёв глянул на командира, Акимов кивнул. На руле стоял самый опытный, второй помощник – Забралов Валентин.
«Баджер» шёл на самых малых оборотах, всего узла два (один узел равен одной морской миле в час); мы подскочили, как ужаленные, и встали, по инерции ещё катились, обгоняя фрегат, потом выровнялись, потом я поставил самый малый вперед, и мы опять начали его обгонять! Я попросил в машинном, чтобы снизили обороты до минимально возможных, как тут же на мостике появился «дед» и начал ворчать, что, мол, так долго не продержимся, форсунки забьются маслом или что-то в том духе…
Наконец нашли вариант: идти на одном главном двигателе, второй держать «под парами». Так и двигались в паре, «Армавир» – чуть сзади.
Доложили наверх, что фрегат двигается строго вдоль территориальных вод, не нарушая государственную границу ни на метр. Нам приказали отснять на фото всё, что можно, «приклеиться» и продолжать слежение. Так побежали вахты и сутки. «Баджер» шёл строго параллельно линии территориальных вод, миль 7-8, потом разворачивался и шёл обратно, в старую точку, потом – снова туда и снова – обратно!
Надо ли говорить, что мы сделали столько снимков, сколько смогли, как говорится, и в фас, и в профиль. Мы подходили уже так близко, что дух захватывало, пересекали курс фрегата и по носу, и по корме, что иногда даже противоречило обычной морской практике. Ему всё было нипочём. На связь они не выходили, ничего не предпринимали. На седьмые сутки неожиданно в районе вертолёта они выставили какой-то плакат. Боже! Это было красное сердце, нарисованное на куске фанеры, пронзённое стрелой!
На вертолетной площадке красовался противолодочный вертолёт типа SH-2F «Sea Sprite» с бортовым номером 1319, а рядом – фанерный щит с пурпурным сердцем! Во «штатники» дают! «Штатниками» Королёв называл американцев, и это приелось для всех на мосту.
Тем временем на борту «Badger»…
Экипаж вертолёта, три человека (капитан Джон Кроули – командир вертолёта, второй лейтенант Фрэнк Робинс – второй пилот и старший техник, сержант Дик Пёрл) стояли у двери кабины и лениво обсуждали окружающую обстановку. Они уже третий контрактный срок «тянули лямку» на «Badger». Они уже много чего повидали, однако впервые видели, что русский разведчик так близко подошёл к их фрегату. Можно было и без бинокля рассмотреть на юте «Армавира» собравшихся людей. Кроули сказал:
– Смотрите, у них на этом разведчике пара особей женского пола! Интересно, чем они заняты? А звания у них есть?
Скабрёзно облизнувшись, Фрэнк хохотнул:
– Наверное, не ниже капитана КГБ!
– Вам бы только под юбку капитана КГБ ещё заглянуть! – Дик Пёрл уже был женат и имел двоих мальчишек – двух и семи лет. Он не одобрял их офицерские забавы в каждом порту захода.
– Не хватило вам, господин капитан, четырнадцати дней, которые вы провалялись в госпитале в Субик-Бее (база ВМС США на Филиппинах)?! Джон Кроули от неприятных воспоминаний даже передёрнул плечом, сморщился и, косо глянув на сержанта, сказал:
– Эх, Пёрл, что ты понимаешь в филиппинских женщинах?! Из них, между прочим, уже две стали Мисс Вселенной! И, знаешь, что меня в них сводит с ума?! Их разрез глаз!
– Командир, давайте их немножко подразним! – Фрэнк смотрел в большой бинокль на корму «Армавира», где стояли две красы – русые косы в шортах и коротких футболках.
– Посмотрите, командир! – он протянул бинокль Джону и вышел на площадку рядом с хвостом вертолёта.
Через несколько минут по пояс голый тёмнокожий гигант Робинс выгодно смотрелся напротив заходящего солнечного диска. Он вытащил из вертолёта фанерный щит с нарисованным красной пожарной краской сердцем, пронзённым стрелой.
– Когда ты успел, Фрэнк?! Дамский ты угодник! – Кроули уже увидел, как зашевелились русские на корме «Армавира».
На борту ГиСу «Армавир»
Во время моей вахты, в 17.45 влетает Акимов на мостик и вопит на меня:
– Какого хрена твои девки вылезли полуголые на ют?!
– Александр Евгеньевич, я же здесь! На мосту, на вахте! Я что, за их одеждой в личное время следить обязан?
– Нет, ты видел: эти черномазые выставили пурпурное сердце на вертолёте! А наши дуры и довольны! Давай задами вертеть!
Постепенно на мостике собрались все начальники, обсуждая, как реагировать на этот знак, прямо скажем, неординарного внимания, ведь враг всё-таки, потенциальный противник, понимаешь! Через несколько минут Королёв неожиданно сказал:
– Там у них тоже мужики есть! Надо понимать!
Всё. Если старший сказал, что ничего страшного, значит, ему видней! Так всё и затихло; правда, на следующий день плакат исчез. Видимо, там тоже ребят проработали.
Так прошла ещё пара дней пристального наблюдения друг за другом. На мостике фрегата тоже всегда было много народу, и все рассматривали в бинокли наш «Армавир». Мы подходили так близко, что можно было разглядеть выражения лиц американцев и без всякой оптики. Мы наперебой пытались угадать, кто там появился на мостике у них, на «Баджере», ну и, видимо, американцы тоже этим занимались; в общем, было очень оживленно на обеих коробках. Видно было, что стороны фотографируют друг друга. У американцев стояли две оптические бандуры, как большие телекамеры, нам было видно, как они жестикулировали и что-то показывали – мол, посмотри вон там, эти русские! У них были видны расшитые золотом эмблемы и различные знаки и на плечах, и на рукавах. Нам всё было в диковинку, так близко потенциального противника мы ещё не видели!
В самый разгар смотрин, когда расстояние между нами было всего метров 60-80, вдруг раздался гулкий хлопок швартовой пушки, и с высокого мостика «Баджера» вылетела выброска, шлёпнувшись прямо к нам, на катерную палубу! Мы на мостике стояли окаменевшие, только старший из разведчиков тихо сказал:
– Не двигаться никому! Может, провокация!
В этот момент канат натянулся, и по нему, как по веревочному лифту сверху вниз, прямо к нам на борт скатился довольно объёмный пакет. Пакет шлёпнулся на катерную палубу рядом с гидрологическими лебёдками; в этот момент сработал отстежной карабин, и выброска моментально была утянута обратно на «Баджер». Акимов сказал:
– Да, классно сделано, ничего не скажешь!
– Тихо всем! – это уже скомандовал старший группы особого отдела Королёв.
– Сазонов, ко мне!
К Королёву метнулся мичман Сазонов, и они быстро пошли по верхам на катерную палубу. Со всех трапов уже торчали головы любопытных из нашего экипажа.
– Командир, уберите зрителей по каютам! – Королёв уже злился.
Неожиданно «Баджер» взял круто влево, сразу оторвался от нас метров на 300-400 и дальше стал удаляться, набирая скорость. Акимов дал команду застопорить машины, и «Армавир» лёг в дрейф. Я подумал: хорошо, что американцы не видят вблизи эту нашу суету вокруг пакета и как всю нашу команду разогнали по каютам.
– Александр Евгеньевич, прошу «добро» на катерную? – я направился на катерную палубу, вызвав туда же по громкой связи боцмана.
– Разрешите, мы вам поможем, если что?
Я обратился к Королёву, давая понять, что, мол, мы-то свое судно знаем досконально, мешать не будем. Он молча, кивнул, и мы обступили пакет на почтительном расстоянии. Тут Картузов и сказал:
– А, по-моему, картонка какая-то, наверное, пустышка! По звуку слышно было!
Королёв даже посмотрел на пакет с двадцати метров в свой бинокуляр и выдохнул:
– Действительно, какая-то макулатура, перевязанная красивым шнурком, упаковано вроде в бумагу! Ну что, подходим? Нас, как говорится, было четверо! Остальные все – вниз!
– Да тьфу на вас!! Господи, прости! – Картузов был гражданским боцманом, плавал на флоте уже более двадцати лет, повидал всякое и поэтому всячески показывал, что ему ваши намёки вообще ни к чему.
Мы подошли ближе. Боцман перекрестился и пнул пакет ногой, все вздрогнули, но ничего не произошло. Потом он смело наклонился и начал его распаковывать. Довольно быстро извлёк из него красивую, видимо, парадную фуражку с козырьком, расшитым золотыми листьями, и помпезной кокардой посередине.
– Капитанская фурага! – со знанием дела произнёс Королёв, а он знал про них точно всё, я это уже усвоил! Мы с интересом крутили и осматривали со всех сторон фуражку командира американского фрегата «Баджер».
– А это что за энциклопедия? Смотрите, всё на английском! – Картузов развернул ещё один пакет с цветным толстым журналом.
– Боцман, а вы хотели бы, чтобы вам всё на русском присылали?
Мы увидели, насколько я понял, бегло пролистав этот журнальчик, что эта была рекламная брошюра, где были указаны история постройки и спуска на воду фрегата ВМС США «Баджер», всех его командиров с момента спуска на воду, все его походы, а также основное вооружение и характеристики. В журнале было много схем корпуса фрегата в разрезе, где указывалось, что и где находится. Я посмотрел прямо в глаза Королёва, и мы подумали, по-видимому, одинаково. Этот акт американцев означал одно: эй вы, русские, не мучайтесь, наверное, все глаза в бинокли проглядели! Нате вам нашу рекламную брошюру, там всё написано!
И ещё одно: я заметил выпавший листок из пакета с фуражкой; подняв его, прочитал вслух размашистую рукописную надпись: «Sincerely, for the Captain!» и тут же перевёл с английского, это было несложно: «С большим уважением – для капитана!»
– Так! Дайте-ка сюда, старпом! – Королёв тут же забрал все дары с собой и двинулся на ходовой мостик. Акимов, посмотрев на все это, сказал:
– Александр Сергеевич, журнал, понятно, нам точно не нужен, ну а фуражка-то вам зачем? Всё-таки это мне подарок!
– Так, разговорчики, командир, я – старший от комитета госбезопасности здесь и своей властью принимаю решение изъять эти предметы для исследования в лаборатории на базе во Владивостоке!
Так и не отдал же до конца слежения!
А конец неожиданно оказался близким. В ночь на 2 сентября в районе 02.30 часов утра на командирской вахте фрегат вдруг дал ходу. Даже в темноте было видно, как из его трубы выдохнули клубы чёрного дыма, потом полетели искры, и он понёсся со всеми его штатными, в соответствии с энциклопедией, тридцатью двумя узлами скорости куда-то на северо-восток, курсом 35-45 градусов. Мы, конечно, доложили наверх. Нам приказано было прекратить слежение и следовать на базу. Утром мы уже ошвартовались у своего любимого 36-го причала.
И только 7 сентября 1983 года, вечером, мы все узнали, что именно в ночь с 1 на 2 сентября над территорией СССР в районе острова Сахалин был сбит пассажирский «Боинг-747» (регистрационный номер HL7442) южнокорейской компании Korean Air, выполнявший регулярный рейс KAL-007 по маршруту Нью-Йорк – Сеул. Вот так. Значит, «Баджер» не случайно стоял долго в конечной точке этого смертельного, как оказалось, маршрута самолёта-разведчика.
Мы не верили своим ушам! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Это что – война?!
По материалам западной прессы
«…11 августа 1983 года FF 1071 «Badger» прибыл с целями наблюдения в Японское море. Задание было выполнено, и 2 сентября был получен приказ идти на север после трагического инцидента со сбитым самолётом рейса KAL 07 корейских авиалиний советским истребителем над островом Сахалин 1 сентября…»
Часть 2. Цель – уничтожить!
В этой части я приведу лишь отрывки из зарубежной и
отечественной прессы, а также выводы комиссии ИКАО.
По материалам «Русская служба BBC News»
«…Пассажирский «Боинг-747» (регистрационный номер HL7442) южнокорейской компании Korean Airlines выполнял регулярный рейс KAL-007 по маршруту Нью-Йорк - Сеул с посадкой для дозаправки в Анкоридже на Аляске. На борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров: южнокорейцев, американцев (в том числе конгрессмен Ларри Макдональд), тайванцев, японцев и филиппинцев...»
«…1 сентября в 03:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу) он вылетел из Анкориджа. Маршрут пролегал над Тихим океаном, огибая территорию СССР. Пролетая в районе радиомаяка в Бетеле, последнего пункта контроля на американской территории, самолет уже отклонился от курса в северо-западном направлении на 20 километров. Ситуация была штатной и не давала оснований для тревоги, но незначительная ошибка, постепенно накапливаясь, к моменту гибели самолёта выросла до 500 с лишним километров...»
По данным расследования, проведенного Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и впоследствии подтвержденного информацией с «черных ящиков», экипаж неправильно настроил автопилот, а в дальнейшем не выполнял ручных проверок текущих координат, положившись на автоматику. В 04:51 по местному времени самолет вторгся в советское воздушное пространство и продолжил полет над запретной зоной на Камчатке, где располагалась советская ракетная база.
В тот день ожидалось очередное испытание советской баллистической ракеты SS-25, которая должна была стартовать с космодрома в Плесецке и поразить цель на камчатском полигоне Кура.
Разумеется, американцам было небезынтересно, как работает советская ПВО (противовоздушная оборона). К берегам Камчатки всякий раз направлялись самолеты-разведчики Р-135, которые при помощи бортовой аппаратуры наблюдали за пусками, полетами и падением ракет. Разведчики Р-135 строились на базе всё тех же «Боингов» и внешне почти не отличались от них, особенно в темноте и в облаках.
Разведывательный самолет P-135 достиг границы СССР в 02:35 и начал курсировать в заданном районе. В определенный момент он и пассажирский «Боинг» сблизились настолько, что слились на экранах дальних радаров в одну точку.
Вероятно, затем «Боинг» продолжил движение в сторону Камчатки, а Р-135 удалился в направлении, более или менее совпадавшим с международным воздушным коридором.
Система ПВО страны приняла пассажирский лайнер за воздушного разведчика. На перехват поднялись шесть истребителей МиГ-23, которые сопроводили подозрительный объект над Камчаткой и вернулись на базу, когда он в 06:05 покинул советское воздушное пространство и продолжил полет над Охотским морем.
По материалам «Русская служба BBC News»
«…Средствами электронного контроля было зафиксировано, что в 06:10 экипаж сообщил по радио наземным службам на Аляске и в Японии, что полет проходит благополучно. В 06:13 «Боинг» вновь пересек советскую границу, на этот раз над Сахалином. Навстречу взлетели два перехватчика Су-15. В 06:24 поступил приказ: «Уничтожить цель!»
«…Советский лётчик капитан Осипович выпустил две ракеты, поразившие авиалайнер. Через 12 минут обломки упали в море с высоты девяти километров в районе острова Монерон, юго-западнее острова Сахалин...»
Судя по опубликованным записям переговоров Осиповича с землей, пилот и его командиры не предполагали, что самолет – пассажирский, а больше всего были озабочены тем, чтобы нарушитель не ушел.
Как корейский экипаж и пассажиры могли не заметить маневрирования в непосредственной близости у «Боинга» двух советских истребителей Су-15, которые работали парой и выстраивались параллельным курсом, потом опережали «Боинг», уходя на разворот, как пилоты «Боинга» не заметили предупредительных выстрелов Осиповича из авиационной пушки, а ведь он выпустил 243 снаряда? А, может, и не было никаких пассажиров? А экипаж был специально проинструктирован в Анкоридже?
По материалам советской прессы
«…В своих воспоминаниях и интервью 9 сентября 1996 года пилот перехватчика Су-15 Геннадий Николаевич Осипович отмечает, что предупредительные выстрелы были сделаны бронебойными, а не трассирующими снарядами (их просто не было), и пилоты лайнера могли их не заметить. Также он не пытался связаться с самолётом по радио – это требовало перехода на другую частоту. Лётчик признался, что не смог идентифицировать самолёт-нарушитель: «Мы не изучаем гражданские машины иностранных компаний». Однако Осипович уверен, что его присутствие не осталось незамеченным: самолёт-нарушитель снизил скорость до 400 км/ч (по прибору), что советский пилот принял за попытку ухода от перехвата – дальнейшее снижение скорости привело бы к сваливанию перехватчика в штопор. По мнению комиссии ИКАО, расследовавшей данный инцидент, снижение скорости было вызвано началом набора высоты для занятия другого эшелона...»
«…В 18:26 с земли поступил приказ об уничтожении нарушителя, и Осипович с дистанции 5 километров выпустил по цели две ракеты «Р-98». Первая ракета пролетела мимо (под левым крылом лайнера), вторая взорвалась рядом с хвостом, повредив системы управления. Первоначально после поражения лайнер начал набор высоты, а затем стал снижаться со скоростью 1500 м/мин и вошёл в глубокую спираль. Через 12 минут после атаки рейс KE007 на почти сверхзвуковой скорости рухнул в пролив Лаперуза и при ударе о воду полностью разрушился…»
Остаются нераскрытыми две ключевые загадки. Кто отдал роковой приказ? Почему экипаж «Боинга», которому, по официальной версии, приказывали изменить курс и сесть на советском аэродроме, не подчинился?
На волне эмоций в СССР высказывались предположения, будто американцы умышленно направили самолет в советское воздушное пространство с целью проверить на прочность ПВО потенциального противника, а в США же – будто «русские коммунисты» сознательно уничтожили мирных пассажиров, чтобы запугать мир своей неумолимой жестокостью.
Лишь 7 сентября 1986 года советское правительство признало факт уничтожения лайнера и выразило сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей.
Плановая встреча советского министра иностранных дел Громыко и госсекретаря США Шульца 8 сентября 1986 года в Мадриде вылилась в небывалый скандал с публичным обменом обвинениями.
Реакцией на гибель «Боинга» стали антисоветские акции в США (62 жертвы, в их числе – сенатор Лоуренс Макдональд) и Корее (82 пассажира и 23 члена экипажа). Люди устраивали шествия протеста и жгли флаги СССР. С испепеляющей критикой в адрес Советского Союза выступил президент Рейган, назвавший случившееся «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», а также «актом варварства и нечеловеческой жестокости». Репутации СССР был нанесен колоссальный ущерб.
Относительно ответственности советской стороны комиссия ИКАО пришла к выводу, что в момент отдачи приказа на уничтожение самолёта командование ВВС СССР считало, что имеет дело с американским самолётом-разведчиком RC-135, но не произвело исчерпывающей проверки принадлежности самолёта из-за фактора времени, так как неопознанное воздушное судно вскоре должно было покинуть воздушное пространство СССР.
Часть 1. Барсук по-американски
Дело было в августе 1983 года. Стояли в базе. Мы готовили гидрографическое судно «Армавир» к очередному походу на замену морских навигационных знаков в прибрежных водах Приморского края в Японском море. Эти работы были самые непопулярные. Ни тебе валюты (чеки, боны), ни тебе дальних морских надбавок – это я всё о прибавках к зарплате для экипажа, который в таком плавании получает так же, как если бы стояли у стенки в родном порту. Чистый каботаж (плавание вдоль побережья), ничего интересного. Гидрография флота обычно несёт ответственность за содержание и замену, если необходимо, буёв, знаков и прочих навигационных средств на своей территории. Судно практически было готово к плаванию: запасы получены, экипаж сформирован, оставались сущие мелочи.
В то время во Владивостоке, как иногда выражаются местные, «погоды шептали», а это значит, что ветра ещё не начались, и было очень тепло. На судоремонтном заводе нам полностью починили катер после удара волны цунами в бухте Валентин. Кузьмич, наш помощник командира по политической части, завёз новое кино. Как говорится, полная готовность к выходу.
Был поздний вечер пятницы 12 августа; я, как и подобает старшему помощнику командира судна, уехал домой последним, уже в десятом часу вечера, как говорят моряки, пошёл «на сход». В воскресенье я должен был заступить дежурным по дивизиону, поэтому в субботу мы с семьей собирались на городские пляжи покупаться, попрыгать с вышек в августовскую тёплую морскую воду – в общем, отдохнуть как следует.
Легли поздно, я сразу отрубился, и мне приснилось, как со скрипом открылась дверь в комнату, и старший сын Роман, которому было почти два годика, шёл, неуверенно ступая своими ножками, а в руке держал игрушечный деревянный молоточек. Шёл мой маленький сынок и стучал молоточком по стене, по тумбочке, по кровати, а стук – всё сильнее и сильнее. Я тянусь к нему: мол, что случилось? Почему так громко?! Бам! Бам! Бам! Когда стук молоточка стал невыносим, я проснулся и понял, что стучат в коридоре. Сразу вспомнил, как обещал починить звонок, но, как всегда, не хватило времени. Машинально глянул на будильник – 02.34 утра, что-то случилось! Выбежал в коридор в трусах, открыл дверь: там стоял незнакомый мне матрос-посыльный.
– Товарищ старший лейтенант, срочно прибыть на судно! Выход в море по тревоге! Машина внизу ждёт!
Выход по тревоге – ничего себе! Первый раз за два года! Всё, давай, бегом! Примчались на 36-й причал; народу – тьма; контр-адмирала Варакина, начальника гидрографической службы флота, я сразу заметил, кратко поприветствовал и поднялся на ходовой мостик. Акимов, командир «Армавира», коротко бросил мне:
– Пока не знаю, что за шухер, но в твоей каюте уже разместилась военная разведка, а у меня сидит кэгэбист, какая-то шишка! Готовь судно к выходу через тридцать минут! «Главные» уже готовы, слава богу, «дед» сегодня дежурит!
На простом русском языке это означало: что за причина тревоги, не говорят, но причина важная, судя по гостям. Главные двигатели к пуску готовы, потому что по судну дежурит старший механик, и он уже всё, что нужно, сделал.
Вот такая морская терминология; иногда со стороны ничего не понятно. Боцман зовётся «драконом», старший механик – «дедом», тонкий канат, на конце которого прикреплена свинцовая болванка, чтобы дальше летел, – «выброской», судовой врач – «доком», коротко и ясно! Вышли в море довольно быстро, уже в 04.00 я заступил на привычную для меня собачью вахту. Никто, конечно, не спал. На ходовом мостике собрались все офицеры. Капитан I ранга Королёв представился и коротко сказал:
– Товарищи, непосредственно вблизи границ наших территориальных вод, прямо в заливе Петра Великого, обнаружен фрегат УРО (управляемое ракетное оружие) ВМС США «Badger», бортовой номер 1071! Цели прибытия этого грозного корабля не ясны. Нам поставлена задача слежения и сопровождения фрегата в период его нахождения вблизи наших границ! Я назначен старшим по операции слежения, командир судна отвечает лично за безопасность маневрирования и обеспечение работы группы военных разведчиков.
И он представил троих молчаливых молодцев в штатском.
– Да, мой помощник – мичман Сазонов! – из темноты ходового мостика шагнул к нам щуплый паренек в погонах старшего мичмана.
Да, про ходовой мостик: это – мозг любого корабля, где сосредоточены все органы управления кораблём, на ходу, в море. Здесь постоянно находится ходовая вахта: вахтенный капитан, вахтенный штурман, рулевой. Ходовой мостик расположен на самом верху корабельной надстройки, чтобы вахтенные могли осмотреть весь горизонт моря и всю обстановку вокруг. Все решения на любые действия принимаются тоже здесь, на ходовом мостике. На практике у него тоже есть свое сокращение, говорят по-простому: «на мосту».
Через полтора часа подошли к «Баджеру» (вы позволите его так называть, хотя в переводе с английского это означает «Барсук»). Ну, что это за название для фрегата УРО, подумал я, фрегат «Барсук»! Вот у нас названия красивые: «Строгий», «Стерегущий», а тут – «Барсук», ещё «Белкой» назовите! Ну да ладно! Подошли близко, кабельтовых пятнадцать, не больше (кабельтов – это одна десятая морской мили, то есть примерно 182,5 метра). Уже активно восходило солнце, и было хорошо видно, что пароход уже потрепанный, но выглядел ухоженным красавцем. У нас на мосту давно валялся справочник «JFS-1979». Это американский справочник по военно-морским флотам всех стран мира Janes Fighting Ships за 1979 год. Толстенный фолиант, где даже наш «Армавир» был указан и показан со всех сторон. Я прочитал: «…FF1071 Badger – заложен на судоверфи в Todd Pacific Shipyards (Сан Педро, Калифорния) 17.02.1968, спущен на воду 7.12.1968, вступил в строй 1.12.1970…»
13 лет, конечно, многовато, но такой срок службы для корабля – обычное дело.
– Старпом, подходите ближе! На пять кабельтовых! – Королёв глянул на командира, Акимов кивнул. На руле стоял самый опытный, второй помощник – Забралов Валентин.
«Баджер» шёл на самых малых оборотах, всего узла два (один узел равен одной морской миле в час); мы подскочили, как ужаленные, и встали, по инерции ещё катились, обгоняя фрегат, потом выровнялись, потом я поставил самый малый вперед, и мы опять начали его обгонять! Я попросил в машинном, чтобы снизили обороты до минимально возможных, как тут же на мостике появился «дед» и начал ворчать, что, мол, так долго не продержимся, форсунки забьются маслом или что-то в том духе…
Наконец нашли вариант: идти на одном главном двигателе, второй держать «под парами». Так и двигались в паре, «Армавир» – чуть сзади.
Доложили наверх, что фрегат двигается строго вдоль территориальных вод, не нарушая государственную границу ни на метр. Нам приказали отснять на фото всё, что можно, «приклеиться» и продолжать слежение. Так побежали вахты и сутки. «Баджер» шёл строго параллельно линии территориальных вод, миль 7-8, потом разворачивался и шёл обратно, в старую точку, потом – снова туда и снова – обратно!
Надо ли говорить, что мы сделали столько снимков, сколько смогли, как говорится, и в фас, и в профиль. Мы подходили уже так близко, что дух захватывало, пересекали курс фрегата и по носу, и по корме, что иногда даже противоречило обычной морской практике. Ему всё было нипочём. На связь они не выходили, ничего не предпринимали. На седьмые сутки неожиданно в районе вертолёта они выставили какой-то плакат. Боже! Это было красное сердце, нарисованное на куске фанеры, пронзённое стрелой!
На вертолетной площадке красовался противолодочный вертолёт типа SH-2F «Sea Sprite» с бортовым номером 1319, а рядом – фанерный щит с пурпурным сердцем! Во «штатники» дают! «Штатниками» Королёв называл американцев, и это приелось для всех на мосту.
Тем временем на борту «Badger»…
Экипаж вертолёта, три человека (капитан Джон Кроули – командир вертолёта, второй лейтенант Фрэнк Робинс – второй пилот и старший техник, сержант Дик Пёрл) стояли у двери кабины и лениво обсуждали окружающую обстановку. Они уже третий контрактный срок «тянули лямку» на «Badger». Они уже много чего повидали, однако впервые видели, что русский разведчик так близко подошёл к их фрегату. Можно было и без бинокля рассмотреть на юте «Армавира» собравшихся людей. Кроули сказал:
– Смотрите, у них на этом разведчике пара особей женского пола! Интересно, чем они заняты? А звания у них есть?
Скабрёзно облизнувшись, Фрэнк хохотнул:
– Наверное, не ниже капитана КГБ!
– Вам бы только под юбку капитана КГБ ещё заглянуть! – Дик Пёрл уже был женат и имел двоих мальчишек – двух и семи лет. Он не одобрял их офицерские забавы в каждом порту захода.
– Не хватило вам, господин капитан, четырнадцати дней, которые вы провалялись в госпитале в Субик-Бее (база ВМС США на Филиппинах)?! Джон Кроули от неприятных воспоминаний даже передёрнул плечом, сморщился и, косо глянув на сержанта, сказал:
– Эх, Пёрл, что ты понимаешь в филиппинских женщинах?! Из них, между прочим, уже две стали Мисс Вселенной! И, знаешь, что меня в них сводит с ума?! Их разрез глаз!
– Командир, давайте их немножко подразним! – Фрэнк смотрел в большой бинокль на корму «Армавира», где стояли две красы – русые косы в шортах и коротких футболках.
– Посмотрите, командир! – он протянул бинокль Джону и вышел на площадку рядом с хвостом вертолёта.
Через несколько минут по пояс голый тёмнокожий гигант Робинс выгодно смотрелся напротив заходящего солнечного диска. Он вытащил из вертолёта фанерный щит с нарисованным красной пожарной краской сердцем, пронзённым стрелой.
– Когда ты успел, Фрэнк?! Дамский ты угодник! – Кроули уже увидел, как зашевелились русские на корме «Армавира».
На борту ГиСу «Армавир»
Во время моей вахты, в 17.45 влетает Акимов на мостик и вопит на меня:
– Какого хрена твои девки вылезли полуголые на ют?!
– Александр Евгеньевич, я же здесь! На мосту, на вахте! Я что, за их одеждой в личное время следить обязан?
– Нет, ты видел: эти черномазые выставили пурпурное сердце на вертолёте! А наши дуры и довольны! Давай задами вертеть!
Постепенно на мостике собрались все начальники, обсуждая, как реагировать на этот знак, прямо скажем, неординарного внимания, ведь враг всё-таки, потенциальный противник, понимаешь! Через несколько минут Королёв неожиданно сказал:
– Там у них тоже мужики есть! Надо понимать!
Всё. Если старший сказал, что ничего страшного, значит, ему видней! Так всё и затихло; правда, на следующий день плакат исчез. Видимо, там тоже ребят проработали.
Так прошла ещё пара дней пристального наблюдения друг за другом. На мостике фрегата тоже всегда было много народу, и все рассматривали в бинокли наш «Армавир». Мы подходили так близко, что можно было разглядеть выражения лиц американцев и без всякой оптики. Мы наперебой пытались угадать, кто там появился на мостике у них, на «Баджере», ну и, видимо, американцы тоже этим занимались; в общем, было очень оживленно на обеих коробках. Видно было, что стороны фотографируют друг друга. У американцев стояли две оптические бандуры, как большие телекамеры, нам было видно, как они жестикулировали и что-то показывали – мол, посмотри вон там, эти русские! У них были видны расшитые золотом эмблемы и различные знаки и на плечах, и на рукавах. Нам всё было в диковинку, так близко потенциального противника мы ещё не видели!
В самый разгар смотрин, когда расстояние между нами было всего метров 60-80, вдруг раздался гулкий хлопок швартовой пушки, и с высокого мостика «Баджера» вылетела выброска, шлёпнувшись прямо к нам, на катерную палубу! Мы на мостике стояли окаменевшие, только старший из разведчиков тихо сказал:
– Не двигаться никому! Может, провокация!
В этот момент канат натянулся, и по нему, как по веревочному лифту сверху вниз, прямо к нам на борт скатился довольно объёмный пакет. Пакет шлёпнулся на катерную палубу рядом с гидрологическими лебёдками; в этот момент сработал отстежной карабин, и выброска моментально была утянута обратно на «Баджер». Акимов сказал:
– Да, классно сделано, ничего не скажешь!
– Тихо всем! – это уже скомандовал старший группы особого отдела Королёв.
– Сазонов, ко мне!
К Королёву метнулся мичман Сазонов, и они быстро пошли по верхам на катерную палубу. Со всех трапов уже торчали головы любопытных из нашего экипажа.
– Командир, уберите зрителей по каютам! – Королёв уже злился.
Неожиданно «Баджер» взял круто влево, сразу оторвался от нас метров на 300-400 и дальше стал удаляться, набирая скорость. Акимов дал команду застопорить машины, и «Армавир» лёг в дрейф. Я подумал: хорошо, что американцы не видят вблизи эту нашу суету вокруг пакета и как всю нашу команду разогнали по каютам.
– Александр Евгеньевич, прошу «добро» на катерную? – я направился на катерную палубу, вызвав туда же по громкой связи боцмана.
– Разрешите, мы вам поможем, если что?
Я обратился к Королёву, давая понять, что, мол, мы-то свое судно знаем досконально, мешать не будем. Он молча, кивнул, и мы обступили пакет на почтительном расстоянии. Тут Картузов и сказал:
– А, по-моему, картонка какая-то, наверное, пустышка! По звуку слышно было!
Королёв даже посмотрел на пакет с двадцати метров в свой бинокуляр и выдохнул:
– Действительно, какая-то макулатура, перевязанная красивым шнурком, упаковано вроде в бумагу! Ну что, подходим? Нас, как говорится, было четверо! Остальные все – вниз!
– Да тьфу на вас!! Господи, прости! – Картузов был гражданским боцманом, плавал на флоте уже более двадцати лет, повидал всякое и поэтому всячески показывал, что ему ваши намёки вообще ни к чему.
Мы подошли ближе. Боцман перекрестился и пнул пакет ногой, все вздрогнули, но ничего не произошло. Потом он смело наклонился и начал его распаковывать. Довольно быстро извлёк из него красивую, видимо, парадную фуражку с козырьком, расшитым золотыми листьями, и помпезной кокардой посередине.
– Капитанская фурага! – со знанием дела произнёс Королёв, а он знал про них точно всё, я это уже усвоил! Мы с интересом крутили и осматривали со всех сторон фуражку командира американского фрегата «Баджер».
– А это что за энциклопедия? Смотрите, всё на английском! – Картузов развернул ещё один пакет с цветным толстым журналом.
– Боцман, а вы хотели бы, чтобы вам всё на русском присылали?
Мы увидели, насколько я понял, бегло пролистав этот журнальчик, что эта была рекламная брошюра, где были указаны история постройки и спуска на воду фрегата ВМС США «Баджер», всех его командиров с момента спуска на воду, все его походы, а также основное вооружение и характеристики. В журнале было много схем корпуса фрегата в разрезе, где указывалось, что и где находится. Я посмотрел прямо в глаза Королёва, и мы подумали, по-видимому, одинаково. Этот акт американцев означал одно: эй вы, русские, не мучайтесь, наверное, все глаза в бинокли проглядели! Нате вам нашу рекламную брошюру, там всё написано!
И ещё одно: я заметил выпавший листок из пакета с фуражкой; подняв его, прочитал вслух размашистую рукописную надпись: «Sincerely, for the Captain!» и тут же перевёл с английского, это было несложно: «С большим уважением – для капитана!»
– Так! Дайте-ка сюда, старпом! – Королёв тут же забрал все дары с собой и двинулся на ходовой мостик. Акимов, посмотрев на все это, сказал:
– Александр Сергеевич, журнал, понятно, нам точно не нужен, ну а фуражка-то вам зачем? Всё-таки это мне подарок!
– Так, разговорчики, командир, я – старший от комитета госбезопасности здесь и своей властью принимаю решение изъять эти предметы для исследования в лаборатории на базе во Владивостоке!
Так и не отдал же до конца слежения!
А конец неожиданно оказался близким. В ночь на 2 сентября в районе 02.30 часов утра на командирской вахте фрегат вдруг дал ходу. Даже в темноте было видно, как из его трубы выдохнули клубы чёрного дыма, потом полетели искры, и он понёсся со всеми его штатными, в соответствии с энциклопедией, тридцатью двумя узлами скорости куда-то на северо-восток, курсом 35-45 градусов. Мы, конечно, доложили наверх. Нам приказано было прекратить слежение и следовать на базу. Утром мы уже ошвартовались у своего любимого 36-го причала.
И только 7 сентября 1983 года, вечером, мы все узнали, что именно в ночь с 1 на 2 сентября над территорией СССР в районе острова Сахалин был сбит пассажирский «Боинг-747» (регистрационный номер HL7442) южнокорейской компании Korean Air, выполнявший регулярный рейс KAL-007 по маршруту Нью-Йорк – Сеул. Вот так. Значит, «Баджер» не случайно стоял долго в конечной точке этого смертельного, как оказалось, маршрута самолёта-разведчика.
Мы не верили своим ушам! Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Это что – война?!
По материалам западной прессы
«…11 августа 1983 года FF 1071 «Badger» прибыл с целями наблюдения в Японское море. Задание было выполнено, и 2 сентября был получен приказ идти на север после трагического инцидента со сбитым самолётом рейса KAL 07 корейских авиалиний советским истребителем над островом Сахалин 1 сентября…»
Часть 2. Цель – уничтожить!
В этой части я приведу лишь отрывки из зарубежной и
отечественной прессы, а также выводы комиссии ИКАО.
По материалам «Русская служба BBC News»
«…Пассажирский «Боинг-747» (регистрационный номер HL7442) южнокорейской компании Korean Airlines выполнял регулярный рейс KAL-007 по маршруту Нью-Йорк - Сеул с посадкой для дозаправки в Анкоридже на Аляске. На борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров: южнокорейцев, американцев (в том числе конгрессмен Ларри Макдональд), тайванцев, японцев и филиппинцев...»
«…1 сентября в 03:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу) он вылетел из Анкориджа. Маршрут пролегал над Тихим океаном, огибая территорию СССР. Пролетая в районе радиомаяка в Бетеле, последнего пункта контроля на американской территории, самолет уже отклонился от курса в северо-западном направлении на 20 километров. Ситуация была штатной и не давала оснований для тревоги, но незначительная ошибка, постепенно накапливаясь, к моменту гибели самолёта выросла до 500 с лишним километров...»
По данным расследования, проведенного Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и впоследствии подтвержденного информацией с «черных ящиков», экипаж неправильно настроил автопилот, а в дальнейшем не выполнял ручных проверок текущих координат, положившись на автоматику. В 04:51 по местному времени самолет вторгся в советское воздушное пространство и продолжил полет над запретной зоной на Камчатке, где располагалась советская ракетная база.
В тот день ожидалось очередное испытание советской баллистической ракеты SS-25, которая должна была стартовать с космодрома в Плесецке и поразить цель на камчатском полигоне Кура.
Разумеется, американцам было небезынтересно, как работает советская ПВО (противовоздушная оборона). К берегам Камчатки всякий раз направлялись самолеты-разведчики Р-135, которые при помощи бортовой аппаратуры наблюдали за пусками, полетами и падением ракет. Разведчики Р-135 строились на базе всё тех же «Боингов» и внешне почти не отличались от них, особенно в темноте и в облаках.
Разведывательный самолет P-135 достиг границы СССР в 02:35 и начал курсировать в заданном районе. В определенный момент он и пассажирский «Боинг» сблизились настолько, что слились на экранах дальних радаров в одну точку.
Вероятно, затем «Боинг» продолжил движение в сторону Камчатки, а Р-135 удалился в направлении, более или менее совпадавшим с международным воздушным коридором.
Система ПВО страны приняла пассажирский лайнер за воздушного разведчика. На перехват поднялись шесть истребителей МиГ-23, которые сопроводили подозрительный объект над Камчаткой и вернулись на базу, когда он в 06:05 покинул советское воздушное пространство и продолжил полет над Охотским морем.
По материалам «Русская служба BBC News»
«…Средствами электронного контроля было зафиксировано, что в 06:10 экипаж сообщил по радио наземным службам на Аляске и в Японии, что полет проходит благополучно. В 06:13 «Боинг» вновь пересек советскую границу, на этот раз над Сахалином. Навстречу взлетели два перехватчика Су-15. В 06:24 поступил приказ: «Уничтожить цель!»
«…Советский лётчик капитан Осипович выпустил две ракеты, поразившие авиалайнер. Через 12 минут обломки упали в море с высоты девяти километров в районе острова Монерон, юго-западнее острова Сахалин...»
Судя по опубликованным записям переговоров Осиповича с землей, пилот и его командиры не предполагали, что самолет – пассажирский, а больше всего были озабочены тем, чтобы нарушитель не ушел.
Как корейский экипаж и пассажиры могли не заметить маневрирования в непосредственной близости у «Боинга» двух советских истребителей Су-15, которые работали парой и выстраивались параллельным курсом, потом опережали «Боинг», уходя на разворот, как пилоты «Боинга» не заметили предупредительных выстрелов Осиповича из авиационной пушки, а ведь он выпустил 243 снаряда? А, может, и не было никаких пассажиров? А экипаж был специально проинструктирован в Анкоридже?
По материалам советской прессы
«…В своих воспоминаниях и интервью 9 сентября 1996 года пилот перехватчика Су-15 Геннадий Николаевич Осипович отмечает, что предупредительные выстрелы были сделаны бронебойными, а не трассирующими снарядами (их просто не было), и пилоты лайнера могли их не заметить. Также он не пытался связаться с самолётом по радио – это требовало перехода на другую частоту. Лётчик признался, что не смог идентифицировать самолёт-нарушитель: «Мы не изучаем гражданские машины иностранных компаний». Однако Осипович уверен, что его присутствие не осталось незамеченным: самолёт-нарушитель снизил скорость до 400 км/ч (по прибору), что советский пилот принял за попытку ухода от перехвата – дальнейшее снижение скорости привело бы к сваливанию перехватчика в штопор. По мнению комиссии ИКАО, расследовавшей данный инцидент, снижение скорости было вызвано началом набора высоты для занятия другого эшелона...»
«…В 18:26 с земли поступил приказ об уничтожении нарушителя, и Осипович с дистанции 5 километров выпустил по цели две ракеты «Р-98». Первая ракета пролетела мимо (под левым крылом лайнера), вторая взорвалась рядом с хвостом, повредив системы управления. Первоначально после поражения лайнер начал набор высоты, а затем стал снижаться со скоростью 1500 м/мин и вошёл в глубокую спираль. Через 12 минут после атаки рейс KE007 на почти сверхзвуковой скорости рухнул в пролив Лаперуза и при ударе о воду полностью разрушился…»
Остаются нераскрытыми две ключевые загадки. Кто отдал роковой приказ? Почему экипаж «Боинга», которому, по официальной версии, приказывали изменить курс и сесть на советском аэродроме, не подчинился?
На волне эмоций в СССР высказывались предположения, будто американцы умышленно направили самолет в советское воздушное пространство с целью проверить на прочность ПВО потенциального противника, а в США же – будто «русские коммунисты» сознательно уничтожили мирных пассажиров, чтобы запугать мир своей неумолимой жестокостью.
Лишь 7 сентября 1986 года советское правительство признало факт уничтожения лайнера и выразило сожаление по поводу гибели ни в чем не повинных людей.
Плановая встреча советского министра иностранных дел Громыко и госсекретаря США Шульца 8 сентября 1986 года в Мадриде вылилась в небывалый скандал с публичным обменом обвинениями.
Реакцией на гибель «Боинга» стали антисоветские акции в США (62 жертвы, в их числе – сенатор Лоуренс Макдональд) и Корее (82 пассажира и 23 члена экипажа). Люди устраивали шествия протеста и жгли флаги СССР. С испепеляющей критикой в адрес Советского Союза выступил президент Рейган, назвавший случившееся «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», а также «актом варварства и нечеловеческой жестокости». Репутации СССР был нанесен колоссальный ущерб.
Относительно ответственности советской стороны комиссия ИКАО пришла к выводу, что в момент отдачи приказа на уничтожение самолёта командование ВВС СССР считало, что имеет дело с американским самолётом-разведчиком RC-135, но не произвело исчерпывающей проверки принадлежности самолёта из-за фактора времени, так как неопознанное воздушное судно вскоре должно было покинуть воздушное пространство СССР.
Часть 3. А где же тело?
Советские, американские и японские ВМС практически сразу, в сентябре 1983 года начали поиски обломков сбитого самолета. О сотрудничестве при тогдашних отношениях не было и речи. Уже 11 сентября 1983 года «Армавир» снова вышел в море и направился в зону падения южнокорейского «Боинга» с целью гидрографического обеспечения группировки советских военно-морских сил и оказания поддержки поисково-спасательному отряду.
Прибыв на место, мы обнаружили небывалое скопление кораблей и судов в районе падения южнокорейского самолёта. Это было что-то с чем-то!
Американские, японские, северокорейские, южнокорейские, канадские, русские корабли, суда, лодки и «лодчёнки» – кого здесь только не было! Глубина в месте падения была около 180 метров – это не много, но и не мало. Небольшие подводные течения, проливная зона (практически зона падения обломков покрывала половину пролива Лаперуза), скопления японских и советских рыбаков и уже начинающая портиться осенняя погода сделали свое дело. Работать – в смысле полного обеспечения безопасности поисковых работ – было невозможно!
Вдобавок в светлое время суток над каждым нашим бортом висел вертолёт «вероятного противника». Мы заметили и наших «старых знакомых»: фрегат «Баджер» был тут как тут, и его вертолет Sea Sprite регулярно осуществлял вылеты на осмотр всех операций советского спасательного отряда.
Тем временем на борту «Баджер»...
Капитан Джон Кроули, командир вертолёта, опять был не в духе. Уже четвёртые сутки экипаж был по десять часов в воздухе. Сегодня, 16 сентября, контр-адмирал Уильям А. Кокелл, командующий оперативной группой ВМС США в районе аварии, вызвал его на ходовой мостик и представил худого и угрюмого капитана, по всем параметрам – из военной разведки:
– Знакомьтесь, Кроули, это ваш четвёртый член экипажа до окончания операции. Капитан Джон Диккенс, военно-морская разведка, отдел специальных операций, вчера прибыл на эсминце «Норфолк»!
– Есть, сэр!
Кроули устало махнул капитану рукой: мол, за мной; и они погромыхали по трапам на вертолётную палубу. Фрэнк Робинс, второй пилот, и старший техник, сержант Дик Пёрл сидели в техническом помещении вертолётного ангара и пили бесплатный кофе. Этого «добра» на «Баджере» было много: прямо в ангаре был кофейный автомат, однако, как у всего бесплатного, вкус у него был отвратным.
– Джон, будете пить кофе? – спросил Дик Пёрл, понимая, что вопрос прозвучал риторически.
– Давайте-ка – за моё вторжение! – Диккенс вытащил откуда-то плоскую флягу и достал из кармана складные пластиковые рюмки.
– Всегда таскаю с собой, вот – опять пригодились!
Команда опустошила флягу, даже не задумываясь. Кроули подумал, что, да, устали! Сменный экипаж застрял на Хоккайдо (ближайший японский остров), погода не давала возможности взлететь транспортному вертолёту. Он с тоской глянул в большой квадратный иллюминатор – ветер усиливался, неба уже видно не было, начинало покачивать. Видно, застряли мы здесь надолго!
– Всё! Всем – спать! Завтра в 6.30 – полная готовность!
Команда разошлась по каютам.
В 04.00 неожиданно была сыграна боевая тревога: сирена выла неприятно долго. Командиров собрали на ЦПУ (центральный пост управления) «Баджера», и Кокелл проинформировал, что русские что-то нашли, так как обнаружены сигналы радиобуя, которыми оснащены «чёрные ящики»; место удалось определить, и все силы направляются именно туда.
– Джон! – он обратился к Кроули отдельно. – Прошу тебя быть в немедленной готовности к вылету! Я понимаю, вы работаете без смены, но сейчас это особенно важно!
Уже рассвело, видимость была плохая, серое небо не предвещало ничего хорошего, однако ливень уже прекратился, и ветер немного стих. Экипаж уже в полной готовности находился в техническом помещении ангара, как последовал сигнал: «На взлёт!»
Кроули был уверен в машине, как в самом себе. Они получили свой первый усовершенствованный «Sea Sprite» SH-2F всего два года назад. На нём был установлен новый несущий винт с увеличенным ресурсом и более простая система управления сервозакрылками. Вертолёт управлялся буквально двумя пальцами. Взлетели нормально, пошли курсом прямо на группу русских кораблей.
Там, в восьми милях (примерно 16 км) от предполагаемого места падения «Боинга» собралась необычно большая группа русских. Они облетели район несколько раз со всех сторон, и Диккенс заметил, что с одного океанского буксира с названием «Bogatyr» («Богатырь») спускают под воду какой-то аппарат. Он несколько раз показал Кроули палец вниз: мол, ниже!
– Нельзя! Ближе не дадут!
Диккенс выпучил глаза, махая пальцем вниз и показывая ему перед носом:
– Давай, Кроули! Надо сделать фото!
Кроули снизил самолет и пролетел метрах в сорока над палубой «Богатыря», чуть не задевая мачту. Диккенс сделал очередь из примерно пятидесяти фотоснимков и удовлетворенно махнул рукой:
– Снято!!! Можно домой!
Командир сделал вираж и двинулся на «Баджер». Ветер усиливался, видно было, как «мотыляются» антенны на фрегате. Начали манёвр посадки; Кроули держал штурвал левой рукой, а правой включил дополнительный прожектор на шасси вертолета. «Баджер» дал курс и скорость на посадку, командир пошёл на снижение. Уже виднелась бригада посадки с указательными фонарями, а ветер всё усиливался. Первый заход был неудачным, и командир, едва не «чиркнув» винтами антенну на вертолётном ангаре, вывел машину на второй круг.
На втором заходе, когда оставалось до края вертолётной площадки метров сорок, прижимной порыв ветра дёрнул машину так сильно, что Кроули опять едва вывернул от пролетающей мимо антенны, но кормовым винтом всё-таки её задел. Кормовой винт тут же встал, загорелись аварийные красные лампочки, и включилась звуковая сигнализация, хвост начал вращаться, а винтокрылая машина потеряла управление. Последнее, что увидел Кроули еще посуху, это как Диккенс застегнул жесткий резиновый чехол фотокамеры и набросил его себе на шею. Дальше было мокро: они плюхнулись в пролив Лаперуза, Фрэнк уже «отстрелил» двери, и все четверо выпорхнули на поверхность воды. Вертолёт завис хвостом кверху, лопасти по инерции еще били по воде какое-то время, вода быстро проникала в кабину, а через три-четыре минуты он исчез в глубине.
Вода показалась Кроули очень холодной, хотя в погодной справке, он это точно помнил, значилось 51-52 градуса тепла по Фаренгейту. Ребят разбросало волнами: один, два, три – вроде все, посчитал он и успокоился, зная, что новые гидрокостюмы удержат на плаву долго, даже если человек потеряет сознание. Краем глаза он заметил, как заметались на «Баджере» посадочные матросы, как медленно «Баджер» удалялся от места их падения; потом, видно, машины застопорили и дали с мостика в воздух три ракеты. В затылке ломило, во рту стояла горечь, но одна мысль его успокаивала: всё, эта их миссия завершена!
По материалам американской прессы
«…Во время наблюдения за поисковыми операциями советских кораблей ВМФ СССР 17 сентября 1983 года вертолет американского фрегата «Badger» HSL-37 неудачно маневрировал при посадке на палубу фрегата и упал в море. Находившийся неподалеку от места падения корабль береговой охраны США «Munro» оперативно спас из воды экипаж из четырёх человек. На этом миссия «Badger» была завершена, фрегат закончил своё участие в поисковой операции KAL 007 и 21 сентября уже был в порту Йокосука (Япония)…»
Тем временем все силы американцев, японцев и южнокорейцев сконцентрировались в районе русского буксира «Богатырь», где явно работал погружной поисковый подводный аппарат.
Контр-адмирал Кокелл перенёс свой морской штаб на «Норфолк», и они «кружили» вокруг «Богатыря». Задействованы были ещё два вертолёта, которые вели постоянное наблюдение за тем, что поднимал на поверхность глубоководный поисковый аппарат русских. На фото, которые сделал Диккенс, ясно было видно, что на палубе «Богатыря» скапливалась куча ненужного хлама: например, гора женских сумок, связанных одним канатом, несколько связок очков, женских пудрениц, странные мелкие обломки фюзеляжа. И из-за этого дерьма мы потеряли вертолёт?!
Канадский спасатель «Мунро» работал с тремя группами водолазов по двенадцать часов в сутки, однако ни тел, ни конкретных доказательств найти так и не удалось. Среди поднятых обломков не было найдено также ни одной обгорелой вещи. Да и по составу находок у водолазов складывалось впечатление, что самолет был загружен заведомо случайными, уже ненужными вещами.
Тем временем, на борту «Армавира»
– Михалыч, принимай гостей! – командир Акимов показал на катер «Богатыря», идущий к нам на всех парах.
– Есть, командир! – я уже дал боцманской команде готовить правый борт к приёму катера.
Гости в составе капитана I ранга Семёнова и двух «кап-три» (так на флоте сокращённо называют капитанов III ранга), поднялись на борт. Семёнова Александра Васильевича я уже знал, мы познакомились на постановке задач перед началом всех работ. Он командовал тем самым глубоководным аппаратом, на который были все надежды. Совещание в каюте командира длилось около часа. Уже практически месяц безуспешных поисков…
Из рассказа Семенова
– У меня совершенно четкое впечатление: самолет был начинен мусором, и людей, скорее всего, там не было. Почему? Ну вот, если разбивается самолет, даже маленький, как правило, должны оставаться чемоданы, сумочки, хотя бы ручки от чемоданов... А там было такое, что, мне кажется, нормальные люди не должны были везти с собой. Ну, скажем, я вчера поднял манипулятором рулон амальгамы, как с помойки… или одежда вся, как со свалки, из нее вырваны куски. Или как будто прострелена, пробита во многих местах. Я лично никаких останков не встречал. Мы уже почти месяц работаем! И практически ничего.
– Александр Васильевич, а какие-нибудь вещи нашли?! Ну, хоть что-нибудь стоящее?! – контр-адмирал, командующий силами советских морских сил в районе поиска, нервничал: ему надо было доложить в Москву результаты работ.
– Да нет! Носильных вещей – курток там, плащей, туфель – очень мало. А то, что находили, какое-то рваньё! Вот нашли, скажем, россыпь пудрениц. Они остались целыми, открывались. Но, что странно, у всех – разбитые внутри зеркальца. Пластмассовые корпуса абсолютно целые, а зеркальца все разбитые. Или зонты: все – в чехлах, в целых чехлах, даже не надорванных! Чертовщина какая-то!
По материалам советской прессы
«…Не менее интересен рассказ корреспонденту «Известий» начальника водолазной службы производственного объединения «Арктикаморнефтегазразведка» Владимира Захарченко: «Глубина там была 174 метра. Грунт ровный, плотный – песок и мелкая ракушка. Безо всяких перепадов глубины. И буквально на третий день мы нашли самолет. У меня было представление такое, что он будет целый. Ну, может, чуть покореженный. Водолазы зайдут внутрь этого самолета, и все увидят, что там есть. Но на самом деле он был очень сильно разрушен – разнесен, что называется, в щепки. Самое крупное, что мы увидели, это несущие конструкции: длина – полтора-два метра, ширина – 50-60 сантиметров. А остальное разбито на мелкие кусочки... Но самое главное – это не то, что мы там видели, а чего не видели совсем: водолазы практически не обнаружили человеческих останков...»
Наконец одним из советских рыболовных траулеров были выловлены предметы, похожие на чёрные ящики авиалайнера. Они были немедленно доставлены на берег и переправлены в Москву. В течение последующего месяца все работы были прекращены, и группировка судов и кораблей советского флота была расформирована, а мы все вернулись по домам. У всех было странное ощущение, что мы искали чёрную кошку в тёмной комнате и ничего не нашли!
До сих пор загадка южнокорейского «Боинга» не разгадана. По одним сценариям любителей конспирологии на Западе, самолет приземлился где-то на советской территории, и пассажиров с экипажем отправили в сибирские лагеря. Был даже создан международный общественный комитет по их освобождению. По другим – опытные южнокорейские пилоты сумели посадить самолет в Японии, и пассажиры были эвакуированы.
В качестве доказательств этих гипотез приводятся описания «подобных случаев»: например, инженер, обсуживавший электронные системы на борту южнокорейского авиалайнера, неожиданно позвонил матери, но успел лишь сообщить, что с ним все в порядке, после чего сразу же повесил трубку. Появлялись и сообщения том, что пассажиров «Боинга» часто встречали их знакомые, но «воскресшие» делали вид, что те обознались. Есть и размещенное в Интернете заявление американки, чей отец, кадровый разведчик, не стал садиться на рейс 007 буквально за десять минут до вылета – по совету своих сослуживцев.
Несмотря на все эти гипотезы и версии, Федеральный суд округа Колумбия (США) 7 ноября 1988 года отказался ограничить размер материальных претензий родственников погибших американцев к компании Korean Airlines, признав, что экипаж авиалайнера допустил в ходе полета непрофессионализм и халатность.
По материалам советской прессы
«…Через два месяца после катастрофы обломки самолёта были найдены советскими водолазами. Были подняты все приборы, включая бортовые самописцы, однако мировой общественности ничего из поднятого не было доступно вплоть до обнародования результатов расследования второй комиссии ИКАО в 1993 году...»
Рассекреченные документы и данные попавших в руки советских властей бортовых самописцев сбитого «Боинга» свидетельствуют лишь о том, что случилось чудовищное недоразумение, помноженное на атмосферу холодной войны!
Советские, американские и японские ВМС практически сразу, в сентябре 1983 года начали поиски обломков сбитого самолета. О сотрудничестве при тогдашних отношениях не было и речи. Уже 11 сентября 1983 года «Армавир» снова вышел в море и направился в зону падения южнокорейского «Боинга» с целью гидрографического обеспечения группировки советских военно-морских сил и оказания поддержки поисково-спасательному отряду.
Прибыв на место, мы обнаружили небывалое скопление кораблей и судов в районе падения южнокорейского самолёта. Это было что-то с чем-то!
Американские, японские, северокорейские, южнокорейские, канадские, русские корабли, суда, лодки и «лодчёнки» – кого здесь только не было! Глубина в месте падения была около 180 метров – это не много, но и не мало. Небольшие подводные течения, проливная зона (практически зона падения обломков покрывала половину пролива Лаперуза), скопления японских и советских рыбаков и уже начинающая портиться осенняя погода сделали свое дело. Работать – в смысле полного обеспечения безопасности поисковых работ – было невозможно!
Вдобавок в светлое время суток над каждым нашим бортом висел вертолёт «вероятного противника». Мы заметили и наших «старых знакомых»: фрегат «Баджер» был тут как тут, и его вертолет Sea Sprite регулярно осуществлял вылеты на осмотр всех операций советского спасательного отряда.
Тем временем на борту «Баджер»...
Капитан Джон Кроули, командир вертолёта, опять был не в духе. Уже четвёртые сутки экипаж был по десять часов в воздухе. Сегодня, 16 сентября, контр-адмирал Уильям А. Кокелл, командующий оперативной группой ВМС США в районе аварии, вызвал его на ходовой мостик и представил худого и угрюмого капитана, по всем параметрам – из военной разведки:
– Знакомьтесь, Кроули, это ваш четвёртый член экипажа до окончания операции. Капитан Джон Диккенс, военно-морская разведка, отдел специальных операций, вчера прибыл на эсминце «Норфолк»!
– Есть, сэр!
Кроули устало махнул капитану рукой: мол, за мной; и они погромыхали по трапам на вертолётную палубу. Фрэнк Робинс, второй пилот, и старший техник, сержант Дик Пёрл сидели в техническом помещении вертолётного ангара и пили бесплатный кофе. Этого «добра» на «Баджере» было много: прямо в ангаре был кофейный автомат, однако, как у всего бесплатного, вкус у него был отвратным.
– Джон, будете пить кофе? – спросил Дик Пёрл, понимая, что вопрос прозвучал риторически.
– Давайте-ка – за моё вторжение! – Диккенс вытащил откуда-то плоскую флягу и достал из кармана складные пластиковые рюмки.
– Всегда таскаю с собой, вот – опять пригодились!
Команда опустошила флягу, даже не задумываясь. Кроули подумал, что, да, устали! Сменный экипаж застрял на Хоккайдо (ближайший японский остров), погода не давала возможности взлететь транспортному вертолёту. Он с тоской глянул в большой квадратный иллюминатор – ветер усиливался, неба уже видно не было, начинало покачивать. Видно, застряли мы здесь надолго!
– Всё! Всем – спать! Завтра в 6.30 – полная готовность!
Команда разошлась по каютам.
В 04.00 неожиданно была сыграна боевая тревога: сирена выла неприятно долго. Командиров собрали на ЦПУ (центральный пост управления) «Баджера», и Кокелл проинформировал, что русские что-то нашли, так как обнаружены сигналы радиобуя, которыми оснащены «чёрные ящики»; место удалось определить, и все силы направляются именно туда.
– Джон! – он обратился к Кроули отдельно. – Прошу тебя быть в немедленной готовности к вылету! Я понимаю, вы работаете без смены, но сейчас это особенно важно!
Уже рассвело, видимость была плохая, серое небо не предвещало ничего хорошего, однако ливень уже прекратился, и ветер немного стих. Экипаж уже в полной готовности находился в техническом помещении ангара, как последовал сигнал: «На взлёт!»
Кроули был уверен в машине, как в самом себе. Они получили свой первый усовершенствованный «Sea Sprite» SH-2F всего два года назад. На нём был установлен новый несущий винт с увеличенным ресурсом и более простая система управления сервозакрылками. Вертолёт управлялся буквально двумя пальцами. Взлетели нормально, пошли курсом прямо на группу русских кораблей.
Там, в восьми милях (примерно 16 км) от предполагаемого места падения «Боинга» собралась необычно большая группа русских. Они облетели район несколько раз со всех сторон, и Диккенс заметил, что с одного океанского буксира с названием «Bogatyr» («Богатырь») спускают под воду какой-то аппарат. Он несколько раз показал Кроули палец вниз: мол, ниже!
– Нельзя! Ближе не дадут!
Диккенс выпучил глаза, махая пальцем вниз и показывая ему перед носом:
– Давай, Кроули! Надо сделать фото!
Кроули снизил самолет и пролетел метрах в сорока над палубой «Богатыря», чуть не задевая мачту. Диккенс сделал очередь из примерно пятидесяти фотоснимков и удовлетворенно махнул рукой:
– Снято!!! Можно домой!
Командир сделал вираж и двинулся на «Баджер». Ветер усиливался, видно было, как «мотыляются» антенны на фрегате. Начали манёвр посадки; Кроули держал штурвал левой рукой, а правой включил дополнительный прожектор на шасси вертолета. «Баджер» дал курс и скорость на посадку, командир пошёл на снижение. Уже виднелась бригада посадки с указательными фонарями, а ветер всё усиливался. Первый заход был неудачным, и командир, едва не «чиркнув» винтами антенну на вертолётном ангаре, вывел машину на второй круг.
На втором заходе, когда оставалось до края вертолётной площадки метров сорок, прижимной порыв ветра дёрнул машину так сильно, что Кроули опять едва вывернул от пролетающей мимо антенны, но кормовым винтом всё-таки её задел. Кормовой винт тут же встал, загорелись аварийные красные лампочки, и включилась звуковая сигнализация, хвост начал вращаться, а винтокрылая машина потеряла управление. Последнее, что увидел Кроули еще посуху, это как Диккенс застегнул жесткий резиновый чехол фотокамеры и набросил его себе на шею. Дальше было мокро: они плюхнулись в пролив Лаперуза, Фрэнк уже «отстрелил» двери, и все четверо выпорхнули на поверхность воды. Вертолёт завис хвостом кверху, лопасти по инерции еще били по воде какое-то время, вода быстро проникала в кабину, а через три-четыре минуты он исчез в глубине.
Вода показалась Кроули очень холодной, хотя в погодной справке, он это точно помнил, значилось 51-52 градуса тепла по Фаренгейту. Ребят разбросало волнами: один, два, три – вроде все, посчитал он и успокоился, зная, что новые гидрокостюмы удержат на плаву долго, даже если человек потеряет сознание. Краем глаза он заметил, как заметались на «Баджере» посадочные матросы, как медленно «Баджер» удалялся от места их падения; потом, видно, машины застопорили и дали с мостика в воздух три ракеты. В затылке ломило, во рту стояла горечь, но одна мысль его успокаивала: всё, эта их миссия завершена!
По материалам американской прессы
«…Во время наблюдения за поисковыми операциями советских кораблей ВМФ СССР 17 сентября 1983 года вертолет американского фрегата «Badger» HSL-37 неудачно маневрировал при посадке на палубу фрегата и упал в море. Находившийся неподалеку от места падения корабль береговой охраны США «Munro» оперативно спас из воды экипаж из четырёх человек. На этом миссия «Badger» была завершена, фрегат закончил своё участие в поисковой операции KAL 007 и 21 сентября уже был в порту Йокосука (Япония)…»
Тем временем все силы американцев, японцев и южнокорейцев сконцентрировались в районе русского буксира «Богатырь», где явно работал погружной поисковый подводный аппарат.
Контр-адмирал Кокелл перенёс свой морской штаб на «Норфолк», и они «кружили» вокруг «Богатыря». Задействованы были ещё два вертолёта, которые вели постоянное наблюдение за тем, что поднимал на поверхность глубоководный поисковый аппарат русских. На фото, которые сделал Диккенс, ясно было видно, что на палубе «Богатыря» скапливалась куча ненужного хлама: например, гора женских сумок, связанных одним канатом, несколько связок очков, женских пудрениц, странные мелкие обломки фюзеляжа. И из-за этого дерьма мы потеряли вертолёт?!
Канадский спасатель «Мунро» работал с тремя группами водолазов по двенадцать часов в сутки, однако ни тел, ни конкретных доказательств найти так и не удалось. Среди поднятых обломков не было найдено также ни одной обгорелой вещи. Да и по составу находок у водолазов складывалось впечатление, что самолет был загружен заведомо случайными, уже ненужными вещами.
Тем временем, на борту «Армавира»
– Михалыч, принимай гостей! – командир Акимов показал на катер «Богатыря», идущий к нам на всех парах.
– Есть, командир! – я уже дал боцманской команде готовить правый борт к приёму катера.
Гости в составе капитана I ранга Семёнова и двух «кап-три» (так на флоте сокращённо называют капитанов III ранга), поднялись на борт. Семёнова Александра Васильевича я уже знал, мы познакомились на постановке задач перед началом всех работ. Он командовал тем самым глубоководным аппаратом, на который были все надежды. Совещание в каюте командира длилось около часа. Уже практически месяц безуспешных поисков…
Из рассказа Семенова
– У меня совершенно четкое впечатление: самолет был начинен мусором, и людей, скорее всего, там не было. Почему? Ну вот, если разбивается самолет, даже маленький, как правило, должны оставаться чемоданы, сумочки, хотя бы ручки от чемоданов... А там было такое, что, мне кажется, нормальные люди не должны были везти с собой. Ну, скажем, я вчера поднял манипулятором рулон амальгамы, как с помойки… или одежда вся, как со свалки, из нее вырваны куски. Или как будто прострелена, пробита во многих местах. Я лично никаких останков не встречал. Мы уже почти месяц работаем! И практически ничего.
– Александр Васильевич, а какие-нибудь вещи нашли?! Ну, хоть что-нибудь стоящее?! – контр-адмирал, командующий силами советских морских сил в районе поиска, нервничал: ему надо было доложить в Москву результаты работ.
– Да нет! Носильных вещей – курток там, плащей, туфель – очень мало. А то, что находили, какое-то рваньё! Вот нашли, скажем, россыпь пудрениц. Они остались целыми, открывались. Но, что странно, у всех – разбитые внутри зеркальца. Пластмассовые корпуса абсолютно целые, а зеркальца все разбитые. Или зонты: все – в чехлах, в целых чехлах, даже не надорванных! Чертовщина какая-то!
По материалам советской прессы
«…Не менее интересен рассказ корреспонденту «Известий» начальника водолазной службы производственного объединения «Арктикаморнефтегазразведка» Владимира Захарченко: «Глубина там была 174 метра. Грунт ровный, плотный – песок и мелкая ракушка. Безо всяких перепадов глубины. И буквально на третий день мы нашли самолет. У меня было представление такое, что он будет целый. Ну, может, чуть покореженный. Водолазы зайдут внутрь этого самолета, и все увидят, что там есть. Но на самом деле он был очень сильно разрушен – разнесен, что называется, в щепки. Самое крупное, что мы увидели, это несущие конструкции: длина – полтора-два метра, ширина – 50-60 сантиметров. А остальное разбито на мелкие кусочки... Но самое главное – это не то, что мы там видели, а чего не видели совсем: водолазы практически не обнаружили человеческих останков...»
Наконец одним из советских рыболовных траулеров были выловлены предметы, похожие на чёрные ящики авиалайнера. Они были немедленно доставлены на берег и переправлены в Москву. В течение последующего месяца все работы были прекращены, и группировка судов и кораблей советского флота была расформирована, а мы все вернулись по домам. У всех было странное ощущение, что мы искали чёрную кошку в тёмной комнате и ничего не нашли!
До сих пор загадка южнокорейского «Боинга» не разгадана. По одним сценариям любителей конспирологии на Западе, самолет приземлился где-то на советской территории, и пассажиров с экипажем отправили в сибирские лагеря. Был даже создан международный общественный комитет по их освобождению. По другим – опытные южнокорейские пилоты сумели посадить самолет в Японии, и пассажиры были эвакуированы.
В качестве доказательств этих гипотез приводятся описания «подобных случаев»: например, инженер, обсуживавший электронные системы на борту южнокорейского авиалайнера, неожиданно позвонил матери, но успел лишь сообщить, что с ним все в порядке, после чего сразу же повесил трубку. Появлялись и сообщения том, что пассажиров «Боинга» часто встречали их знакомые, но «воскресшие» делали вид, что те обознались. Есть и размещенное в Интернете заявление американки, чей отец, кадровый разведчик, не стал садиться на рейс 007 буквально за десять минут до вылета – по совету своих сослуживцев.
Несмотря на все эти гипотезы и версии, Федеральный суд округа Колумбия (США) 7 ноября 1988 года отказался ограничить размер материальных претензий родственников погибших американцев к компании Korean Airlines, признав, что экипаж авиалайнера допустил в ходе полета непрофессионализм и халатность.
По материалам советской прессы
«…Через два месяца после катастрофы обломки самолёта были найдены советскими водолазами. Были подняты все приборы, включая бортовые самописцы, однако мировой общественности ничего из поднятого не было доступно вплоть до обнародования результатов расследования второй комиссии ИКАО в 1993 году...»
Рассекреченные документы и данные попавших в руки советских властей бортовых самописцев сбитого «Боинга» свидетельствуют лишь о том, что случилось чудовищное недоразумение, помноженное на атмосферу холодной войны!

Виктор НИКИФОРОВ
По профессии – врач, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор, автор научных и научно-популярных работ. На протяжении многих лет пишет стихи и прозу. Дипломант Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии (1996). Издана книга стихов и песен «На рубеже веков и судеб» (2000). Литературные произведения неоднократно публиковались в периодических изданиях.
По профессии – врач, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор, автор научных и научно-популярных работ. На протяжении многих лет пишет стихи и прозу. Дипломант Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии (1996). Издана книга стихов и песен «На рубеже веков и судеб» (2000). Литературные произведения неоднократно публиковались в периодических изданиях.
КОРАБЛЬ ДЕТСТВА
В детстве одной из моих любимых песен была лирическая песня из мультфильма, посвященная крейсеру «Аврора»:
Дремлет притихший северный город.
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, крейсер «Аврора»,
В час, когда утро встаёт над Невой?
И дальше в тексте песни предлагались версии того, что могло сниться «Авроре»: вспышки орудий и патрули матросов в чёрных бушлатах:
Может быть, снова в тучах лохматых
Вспышки орудий видишь вдали,
Или, как прежде, в чёрных бушлатах
Грозно шагают твои патрули…
Разумеется, в песне того времени нельзя было обойтись без отсылок к участию экипажа корабля в революции, поскольку сам крейсер на тот момент прочно вошёл в историю страны как символ революции. Благодаря этому он был превращён в музей на воде и стал одной из достопримечательностей Ленинграда. И, конечно, уже в раннем детстве меня водили на экскурсию на «Аврору».
Моё воображение поражали каюты матросов с подвесными койками, палуба с деревянным настилом, большие металлические трубы, крутые металлические трапы и массивные корабельные орудия, одно из которых стало легендарным благодаря официальной версии о выстреле, подавшем сигнал к началу захвата восставшими в октябре 1917 года Зимнего дворца – резиденции временного правительства.
Особо памятное для меня посещение корабля случилось во время учёбы в первом классе. В нашей школе была традиция: проводить на крейсере «Аврора» ритуал первого за время учёбы приёма успевающих на «отлично» учеников в октябрята. Ритуал заключался во вручении в торжественной обстановке значков в виде красных пятиконечных звёздочек в качестве символа наступления подготовительного этапа к вступлению в пионерскую организацию. В назначенный день наш класс в сопровождении учителей поднялся на борт крейсера, построился на линейку, и мне в числе избранных учеников вручили октябрятскую звёздочку.
Парадоксально, но название «Аврора» кораблю, на котором проходил этот ритуал, выбрал лично последний российский император Николай II, который наблюдал за торжественным спуском крейсера на воду после его постройки. Не только эти факты, но и многие страницы истории крейсера, включая его дальние походы, участие в русско-японской и Первой мировой войнах, в советское время оставались в тени его участия в революционных событиях. Даже его вклад в оборону города во время Великой Отечественной войны широко не освещался.
Спустя много лет после детских посещений «Авроры», в пригороде Петербурга я увидел памятник, посвящённый орудиям крейсера. Как оказалось, памятник являлся частью мемориального комплекса «Морякам-Авроровцам». Уже в начале обороны города во время Великой Отечественной вой-
ны артиллерийские орудия были сняты с «Авроры» и установлены в виде многокилометровой батареи на оборудованные площадки у подножья стратегически важного пункта – Вороньей горы. Моряки «Авроры» мужественно сдерживали наступление вражеских войск. К сожалению, силы были неравными, и большинство сражавшихся на этой артиллерийской батарее погибли. В рукопашном бою были тяжело ранены несколько моряков под командованием лейтенанта А. В. Смаглия. Схватившие моряков фашисты сожгли их заживо и убили девушку-санитарку. Только благодаря усилиям остававшихся в живых ветеранов и общественности спустя много лет после войны, в середине 1980-х годов, на местах боев был создан мемориал.
В эти же годы шла подготовка к 70-летнему юбилею революции. Крейсер «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьского вооруженного восстания, символ революции, должен был быть в строю, готовый к приёму почётных гостей. Однако обследование корабля специальной комиссией показало сильное повреждение его корпуса в результате длительного контакта с водой, что потребовало капитального ремонта. «Аврору» отправили на судоремонтный завод, где была проведена реконструкция с заменой подводной части исторического корабельного корпуса, технически не подлежавшей восстановлению. После этого ремонта «Аврора» стала выглядеть, как новенькая. Но вскоре выяснилось, что часть отрезанного исторического корпуса частично затоплена на побережье Финского залива, что позволило некоторым неравнодушным лицам утверждать об уничтожении аутентичного исторического облика корабля.
Решение об отделении повреждённой подводной части корпуса корабля, по-видимому, на тот момент было обоснованным. Однако справедливости ради хотелось бы заметить, что та часть корпуса, которая пришла в аварийное состояние и была удалена, требовала бережного к себе отношения как исторический артефакт, и ей нужно было найти достойное применение – например, в качестве экспоната военно-морского музея.
Уже давно на корабле не проводят ритуал посвящения в октябрята, а историческая роль крейсера «Аврора» оказалась значительнее её участия в революционных событиях. Для меня же осталось важным, что когда-то, в детском возрасте мне посчастливилось побывать на палубе легендарного корабля, ещё неразделённый металлический корпус которого помнил важные исторические события XX века. При этом сама «Аврора» стала своеобразным «кораблём моего детства», а каждое новое её посещение для меня – словно встреча со старым знакомым.
Вместо эпилога хочется сказать, что уже в XXI веке был проведён очередной ремонт, в ходе которого крейсеру вернули его ходовые свойства, и он снова из корабля-памятника превратился в полноценный корабль, а в 2013 году крейсер был вновь зачислен в состав Военно-Морского Флота, сохранив при этом музейные функции.
В детстве одной из моих любимых песен была лирическая песня из мультфильма, посвященная крейсеру «Аврора»:
Дремлет притихший северный город.
Низкое небо над головой.
Что тебе снится, крейсер «Аврора»,
В час, когда утро встаёт над Невой?
И дальше в тексте песни предлагались версии того, что могло сниться «Авроре»: вспышки орудий и патрули матросов в чёрных бушлатах:
Может быть, снова в тучах лохматых
Вспышки орудий видишь вдали,
Или, как прежде, в чёрных бушлатах
Грозно шагают твои патрули…
Разумеется, в песне того времени нельзя было обойтись без отсылок к участию экипажа корабля в революции, поскольку сам крейсер на тот момент прочно вошёл в историю страны как символ революции. Благодаря этому он был превращён в музей на воде и стал одной из достопримечательностей Ленинграда. И, конечно, уже в раннем детстве меня водили на экскурсию на «Аврору».
Моё воображение поражали каюты матросов с подвесными койками, палуба с деревянным настилом, большие металлические трубы, крутые металлические трапы и массивные корабельные орудия, одно из которых стало легендарным благодаря официальной версии о выстреле, подавшем сигнал к началу захвата восставшими в октябре 1917 года Зимнего дворца – резиденции временного правительства.
Особо памятное для меня посещение корабля случилось во время учёбы в первом классе. В нашей школе была традиция: проводить на крейсере «Аврора» ритуал первого за время учёбы приёма успевающих на «отлично» учеников в октябрята. Ритуал заключался во вручении в торжественной обстановке значков в виде красных пятиконечных звёздочек в качестве символа наступления подготовительного этапа к вступлению в пионерскую организацию. В назначенный день наш класс в сопровождении учителей поднялся на борт крейсера, построился на линейку, и мне в числе избранных учеников вручили октябрятскую звёздочку.
Парадоксально, но название «Аврора» кораблю, на котором проходил этот ритуал, выбрал лично последний российский император Николай II, который наблюдал за торжественным спуском крейсера на воду после его постройки. Не только эти факты, но и многие страницы истории крейсера, включая его дальние походы, участие в русско-японской и Первой мировой войнах, в советское время оставались в тени его участия в революционных событиях. Даже его вклад в оборону города во время Великой Отечественной войны широко не освещался.
Спустя много лет после детских посещений «Авроры», в пригороде Петербурга я увидел памятник, посвящённый орудиям крейсера. Как оказалось, памятник являлся частью мемориального комплекса «Морякам-Авроровцам». Уже в начале обороны города во время Великой Отечественной вой-
ны артиллерийские орудия были сняты с «Авроры» и установлены в виде многокилометровой батареи на оборудованные площадки у подножья стратегически важного пункта – Вороньей горы. Моряки «Авроры» мужественно сдерживали наступление вражеских войск. К сожалению, силы были неравными, и большинство сражавшихся на этой артиллерийской батарее погибли. В рукопашном бою были тяжело ранены несколько моряков под командованием лейтенанта А. В. Смаглия. Схватившие моряков фашисты сожгли их заживо и убили девушку-санитарку. Только благодаря усилиям остававшихся в живых ветеранов и общественности спустя много лет после войны, в середине 1980-х годов, на местах боев был создан мемориал.
В эти же годы шла подготовка к 70-летнему юбилею революции. Крейсер «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьского вооруженного восстания, символ революции, должен был быть в строю, готовый к приёму почётных гостей. Однако обследование корабля специальной комиссией показало сильное повреждение его корпуса в результате длительного контакта с водой, что потребовало капитального ремонта. «Аврору» отправили на судоремонтный завод, где была проведена реконструкция с заменой подводной части исторического корабельного корпуса, технически не подлежавшей восстановлению. После этого ремонта «Аврора» стала выглядеть, как новенькая. Но вскоре выяснилось, что часть отрезанного исторического корпуса частично затоплена на побережье Финского залива, что позволило некоторым неравнодушным лицам утверждать об уничтожении аутентичного исторического облика корабля.
Решение об отделении повреждённой подводной части корпуса корабля, по-видимому, на тот момент было обоснованным. Однако справедливости ради хотелось бы заметить, что та часть корпуса, которая пришла в аварийное состояние и была удалена, требовала бережного к себе отношения как исторический артефакт, и ей нужно было найти достойное применение – например, в качестве экспоната военно-морского музея.
Уже давно на корабле не проводят ритуал посвящения в октябрята, а историческая роль крейсера «Аврора» оказалась значительнее её участия в революционных событиях. Для меня же осталось важным, что когда-то, в детском возрасте мне посчастливилось побывать на палубе легендарного корабля, ещё неразделённый металлический корпус которого помнил важные исторические события XX века. При этом сама «Аврора» стала своеобразным «кораблём моего детства», а каждое новое её посещение для меня – словно встреча со старым знакомым.
Вместо эпилога хочется сказать, что уже в XXI веке был проведён очередной ремонт, в ходе которого крейсеру вернули его ходовые свойства, и он снова из корабля-памятника превратился в полноценный корабль, а в 2013 году крейсер был вновь зачислен в состав Военно-Морского Флота, сохранив при этом музейные функции.
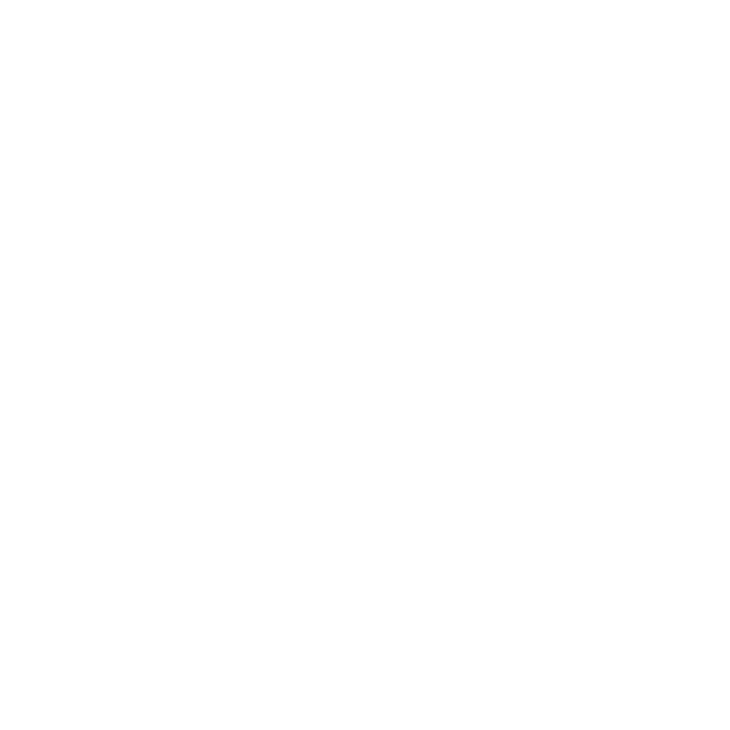
Валерия СИЯНОВА
Родилась в 2003 году в Еврейской автономной области (в Биробиджане).
В настоящее время является студентом Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема.
В 2024 году начались публикации произведений малой прозы. Сначала в альманахе «Новое Слово» (выпуск №13, рассказ «Неизведанное»), затем вышли миниатюры в международном литературном журнале «Художественное слово» (выпуски 42, 43, 44 и 45) и рассказ в альманахе «Рассказ-24» (выпуск №1, рассказ «Крестовый луч»).
Родилась в 2003 году в Еврейской автономной области (в Биробиджане).
В настоящее время является студентом Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема.
В 2024 году начались публикации произведений малой прозы. Сначала в альманахе «Новое Слово» (выпуск №13, рассказ «Неизведанное»), затем вышли миниатюры в международном литературном журнале «Художественное слово» (выпуски 42, 43, 44 и 45) и рассказ в альманахе «Рассказ-24» (выпуск №1, рассказ «Крестовый луч»).
ПОБЕДА ВНУТРИ
Памяти учителя
Кащеева Александра Петровича
– Не смей открывать то, что должно быть скрыто и позабыто раз и навсегда! Не смей! Уста свои на ключ замкни и ничего не говори! – услышал глас из темноты Савелий.
За ним непрестанно гонится чья-то тень. Никак не может разобрать он: кто же это мчится за ним, пытаясь догнать? Но Савелий продолжает упорно грести руками по снежному слою, продвигая синие сани и скрываясь вдали от кого-то, кто не прекращает дышать в спину и передавать сквозь время и пространство своё неумолимо горячее дыхание, которое на самом деле до боли охлаждает.
– Однажды ты столкнёшься со мной лицом к лицу, – темень криво ухмыльнулась, щуря свои незримые очи.
Савелий не поворачивал голову назад, видя и думая об одном – о том самом ковчеге спасения, которого не было видно, но которое хотелось представить находящимся где-то поблизости. Чтобы не сойти с ума, необходимо надеяться и верить в невозможное, становящееся в твоих глазах возможным и вполне реальным.
– Мы не столкнёмся! Я сделаю для этого всё! – крикнул Савелий в пустоту, не зная, к кому обращены его слова. Но чья-то тень не переставала ухмыляться пустым надеждам Савелия. И перед его глазами отчётливо выделилось злобное подобие улыбки, затмевающей всё остальное. Не было ничего, кроме неё, такой устрашающей и непонятной, до очевидности непредсказуемой.
– Уста на ключ замкни! – вновь услышал он голос в кромешной тьме без возможности рассмотреть или дотронуться до владельца уже знакомого гласа.
– Есть то, о чём должен ты забыть! В тебе должно оно захорониться! – как гром посреди ясного неба, вновь раздался над Савелием тот возглас.
Что ответишь тому, кого не знаешь, и кого нет возможности увидеть? Это не понять – кто! Но Савелий решился и крикнул в темень самой темени:
– Не замкну свои уста! Буду говорить до тех пор, пока терпит меня земля!
Он говорил взбудораженно, не понимая, какое право имеет некто пытаться наложить печать на него, принуждая к молчанию – сокрытию посредством забытья и захоронения.
– Ничто невозможно закопать бесследно! Неужели ты не понял? Затыкай рот хоть мне, хоть кому-либо ещё, это не поможет. Даже если мои уста замолкнут, то однажды появится кто-то, кто продолжит те же слова повторять! Меняется лишь форма, но не начинка.
Темнота стала сгущаться; рокот молний грозовых раздавался повсюду, вплоть до болезненных ощущений ушных раковин. Настолько резок, громок и силён был поражающий шум! Однако Савелий продолжал терпеть боль – хотелось стерпеть её молча, пересилив самого себя. И доказать себе, что живо в нём мужество, и с ним оно. Но одних лишь слов мало: было необходимо доказать сквозь препятствия и испытания, что мужчина он не на словах, а на деле.
– Посылай, сколько угодно гроз; я всё стерплю и не упаду! А если упаду, то встану! Пусть лучше я умру, но пытаться встать буду до последнего вздоха! – Савелий выносил сдувающие порывы угольной бури, пытающейся помешать ему продолжить идти вперёд.
– Дойду! Даже если придётся навзничь здесь полечь, всё равно продолжу идти. А если не идти, так ползти! – и продолжал Савелий продвигаться вперёд.
Вдруг, в единую секунду стало легко ему. И остановился Савелий, решив сделать привал, а также осмотреться: повсюду так и не было ничего видно – сплошная темнота и ощущение зыбучего песка, застревающего между фалангами пальцев ног и посылающего телу холодок.
– Кажется… я в пустыне оказался. Но здесь ещё есть кто-то, кого не вижу, но явно ощущаю тут. Ты – не секрет, знай это! Твоё присутствие открыто, и не сумеешь тайной оставаться ты!
Савелий был напряжённым и готовым выйти врукопашную с противником, которого не видел. Ему и не нужно было вглядываться в него: для Савелия не было важным знание того, с кем придётся иметь дело. Значимым было другое: его вера в продолжение дороги вопреки всему. Савелий чувствовал, что он должен выйти из темноты, несмотря ни на что! Назрела Битва с самим собой! Но только ли с самим собой? Ведь здесь есть ещё кто-то, кто не хочет, чтобы Савелий выбрался из кромешной тьмы.
– Отдышусь и отправлюсь дальше, – решил Савелий, переводя дух после изнурительного сопротивления.
С собой у него оказались лишь сани, на которых удалось переместиться из мирка вечных льдин в пустыню. Как осуществился переход в пространстве из одного места в другое, стало для него загадкой, которую пока не удалось отгадать. Вероятно, угольная буря – вовсе не буря, а некий портал, открывающийся, будто по щелчку пальцев, в конкретный и действительно нужный момент. Подходящее время словно не выбирается людьми, а оно само выбирает людей и направляет их в нужное русло. Приходит пора, когда осуществляется то, что должно быть реализованным. И время встречи с неизбежным переходом в иную локацию настало… Внезапно, спустя энное количество времени, произошло резкое изменение температуры: теперь было жарко, и холод ушёл в прошлое. Сани уже не передвигались гладко по снежной тропе. Сейчас они утопали в песках, который Савелий загрёб в правую руку, раскатывая песчинки в ладони, процеживая и возвращая обратно.
Савелий забрался в сани, закрыв глаза, стараясь немного отдохнуть. Но как только он сомкнул глаза, от усталости ощущая, что постепенно погружается в сон… то почувствовал, как сани начали шататься и медленно затягиваться песком, который стал поглощать сани в себя – зыбучую низменность бесконечной песочницы. Он не стал реагировать словесно, сразу ободряясь и выпрыгивая из саней, погружение в пески которых внезапно ускорилось.
Выбравшись из саней, Савелий оказался на поверхности песка. Но тут же почувствовал, что затягивание в бездну песочную продолжается. Саней уже не видно: они безвозвратно поглощены. Остался лишь он, беспомощный перед природной стихией, но пытающийся изо всех сил сопротивляться ей, выпрыгивая из зыбучего песка. Но так просто песок сдаваться не собирался, хотя было ему приятно поиграть с Савелием, который оказался не таким простым, поскольку не хотел он, как сани, легко и без толчков ответных погрузиться в вечную темноту.
За попытками Савелия выпорхнуть из песочной ванны, у которой, похоже, вовсе нет дна, наблюдал тот самый Кто-то. И было это зрелище невероятным – ведь не было давно таких, как он, Савелий: человека с тем самым дном, который не захочет себя отдать вот так, не попытавшись отстоять.
– Попытки твои похвальны, – прозвучало в ушах Савелия, уже находящегося по шею в песке, однако не прекращающего пытаться представить, что окружает его вовсе не песок, а вода. И в ней можно плыть, доверившись ей.
– Но не удастся тебе выбраться…
И Савелий чувствовал… Ухмылку; она не была видна, но она была, и Савелий был уверен в этом.
Силы на то, чтобы вновь пламенные изречения произносить, иссякли. Перед ним была одна задача – выжить, выбравшись из поглощающего песочного бассейна, границ которого он не видел. А были ли эти границы? Может, теперь всё, что есть на Земле, это и есть сплошная зыбучая песочница, клешнями хватающаяся за человека, вопреки всему, и пытающаяся его навечно поглотить? Но Савелий не хотел быть поглощённым.
…Внезапно стал ощутим прилив сил: Савелий, чувствуя, как песок подбирается к подбородку, сделал последний глубокий вдох и успел изречь:
– Ты не победил! Твоя победа – лишь видимость. Настоящая победа – внутри. Я всё равно не согласен с восторжествовавшей тьмой! Тебе не удалось склонить меня к ней. Потому гораздо проще меня просто поглотить, нежели склонить.
На устах Савелия сверкала ярчайшая улыбка. Он был доволен тем, что пытался и продолжает пытаться тянуться к свету, хотя его здесь и вовсе не было. Наверное, тем самым светом был он – сам Савелий. Поэтому и хотел некто его поглотить, что и сделал… ведь Савелий мешал воцариться кромешной тьме.
Памяти учителя
Кащеева Александра Петровича
– Не смей открывать то, что должно быть скрыто и позабыто раз и навсегда! Не смей! Уста свои на ключ замкни и ничего не говори! – услышал глас из темноты Савелий.
За ним непрестанно гонится чья-то тень. Никак не может разобрать он: кто же это мчится за ним, пытаясь догнать? Но Савелий продолжает упорно грести руками по снежному слою, продвигая синие сани и скрываясь вдали от кого-то, кто не прекращает дышать в спину и передавать сквозь время и пространство своё неумолимо горячее дыхание, которое на самом деле до боли охлаждает.
– Однажды ты столкнёшься со мной лицом к лицу, – темень криво ухмыльнулась, щуря свои незримые очи.
Савелий не поворачивал голову назад, видя и думая об одном – о том самом ковчеге спасения, которого не было видно, но которое хотелось представить находящимся где-то поблизости. Чтобы не сойти с ума, необходимо надеяться и верить в невозможное, становящееся в твоих глазах возможным и вполне реальным.
– Мы не столкнёмся! Я сделаю для этого всё! – крикнул Савелий в пустоту, не зная, к кому обращены его слова. Но чья-то тень не переставала ухмыляться пустым надеждам Савелия. И перед его глазами отчётливо выделилось злобное подобие улыбки, затмевающей всё остальное. Не было ничего, кроме неё, такой устрашающей и непонятной, до очевидности непредсказуемой.
– Уста на ключ замкни! – вновь услышал он голос в кромешной тьме без возможности рассмотреть или дотронуться до владельца уже знакомого гласа.
– Есть то, о чём должен ты забыть! В тебе должно оно захорониться! – как гром посреди ясного неба, вновь раздался над Савелием тот возглас.
Что ответишь тому, кого не знаешь, и кого нет возможности увидеть? Это не понять – кто! Но Савелий решился и крикнул в темень самой темени:
– Не замкну свои уста! Буду говорить до тех пор, пока терпит меня земля!
Он говорил взбудораженно, не понимая, какое право имеет некто пытаться наложить печать на него, принуждая к молчанию – сокрытию посредством забытья и захоронения.
– Ничто невозможно закопать бесследно! Неужели ты не понял? Затыкай рот хоть мне, хоть кому-либо ещё, это не поможет. Даже если мои уста замолкнут, то однажды появится кто-то, кто продолжит те же слова повторять! Меняется лишь форма, но не начинка.
Темнота стала сгущаться; рокот молний грозовых раздавался повсюду, вплоть до болезненных ощущений ушных раковин. Настолько резок, громок и силён был поражающий шум! Однако Савелий продолжал терпеть боль – хотелось стерпеть её молча, пересилив самого себя. И доказать себе, что живо в нём мужество, и с ним оно. Но одних лишь слов мало: было необходимо доказать сквозь препятствия и испытания, что мужчина он не на словах, а на деле.
– Посылай, сколько угодно гроз; я всё стерплю и не упаду! А если упаду, то встану! Пусть лучше я умру, но пытаться встать буду до последнего вздоха! – Савелий выносил сдувающие порывы угольной бури, пытающейся помешать ему продолжить идти вперёд.
– Дойду! Даже если придётся навзничь здесь полечь, всё равно продолжу идти. А если не идти, так ползти! – и продолжал Савелий продвигаться вперёд.
Вдруг, в единую секунду стало легко ему. И остановился Савелий, решив сделать привал, а также осмотреться: повсюду так и не было ничего видно – сплошная темнота и ощущение зыбучего песка, застревающего между фалангами пальцев ног и посылающего телу холодок.
– Кажется… я в пустыне оказался. Но здесь ещё есть кто-то, кого не вижу, но явно ощущаю тут. Ты – не секрет, знай это! Твоё присутствие открыто, и не сумеешь тайной оставаться ты!
Савелий был напряжённым и готовым выйти врукопашную с противником, которого не видел. Ему и не нужно было вглядываться в него: для Савелия не было важным знание того, с кем придётся иметь дело. Значимым было другое: его вера в продолжение дороги вопреки всему. Савелий чувствовал, что он должен выйти из темноты, несмотря ни на что! Назрела Битва с самим собой! Но только ли с самим собой? Ведь здесь есть ещё кто-то, кто не хочет, чтобы Савелий выбрался из кромешной тьмы.
– Отдышусь и отправлюсь дальше, – решил Савелий, переводя дух после изнурительного сопротивления.
С собой у него оказались лишь сани, на которых удалось переместиться из мирка вечных льдин в пустыню. Как осуществился переход в пространстве из одного места в другое, стало для него загадкой, которую пока не удалось отгадать. Вероятно, угольная буря – вовсе не буря, а некий портал, открывающийся, будто по щелчку пальцев, в конкретный и действительно нужный момент. Подходящее время словно не выбирается людьми, а оно само выбирает людей и направляет их в нужное русло. Приходит пора, когда осуществляется то, что должно быть реализованным. И время встречи с неизбежным переходом в иную локацию настало… Внезапно, спустя энное количество времени, произошло резкое изменение температуры: теперь было жарко, и холод ушёл в прошлое. Сани уже не передвигались гладко по снежной тропе. Сейчас они утопали в песках, который Савелий загрёб в правую руку, раскатывая песчинки в ладони, процеживая и возвращая обратно.
Савелий забрался в сани, закрыв глаза, стараясь немного отдохнуть. Но как только он сомкнул глаза, от усталости ощущая, что постепенно погружается в сон… то почувствовал, как сани начали шататься и медленно затягиваться песком, который стал поглощать сани в себя – зыбучую низменность бесконечной песочницы. Он не стал реагировать словесно, сразу ободряясь и выпрыгивая из саней, погружение в пески которых внезапно ускорилось.
Выбравшись из саней, Савелий оказался на поверхности песка. Но тут же почувствовал, что затягивание в бездну песочную продолжается. Саней уже не видно: они безвозвратно поглощены. Остался лишь он, беспомощный перед природной стихией, но пытающийся изо всех сил сопротивляться ей, выпрыгивая из зыбучего песка. Но так просто песок сдаваться не собирался, хотя было ему приятно поиграть с Савелием, который оказался не таким простым, поскольку не хотел он, как сани, легко и без толчков ответных погрузиться в вечную темноту.
За попытками Савелия выпорхнуть из песочной ванны, у которой, похоже, вовсе нет дна, наблюдал тот самый Кто-то. И было это зрелище невероятным – ведь не было давно таких, как он, Савелий: человека с тем самым дном, который не захочет себя отдать вот так, не попытавшись отстоять.
– Попытки твои похвальны, – прозвучало в ушах Савелия, уже находящегося по шею в песке, однако не прекращающего пытаться представить, что окружает его вовсе не песок, а вода. И в ней можно плыть, доверившись ей.
– Но не удастся тебе выбраться…
И Савелий чувствовал… Ухмылку; она не была видна, но она была, и Савелий был уверен в этом.
Силы на то, чтобы вновь пламенные изречения произносить, иссякли. Перед ним была одна задача – выжить, выбравшись из поглощающего песочного бассейна, границ которого он не видел. А были ли эти границы? Может, теперь всё, что есть на Земле, это и есть сплошная зыбучая песочница, клешнями хватающаяся за человека, вопреки всему, и пытающаяся его навечно поглотить? Но Савелий не хотел быть поглощённым.
…Внезапно стал ощутим прилив сил: Савелий, чувствуя, как песок подбирается к подбородку, сделал последний глубокий вдох и успел изречь:
– Ты не победил! Твоя победа – лишь видимость. Настоящая победа – внутри. Я всё равно не согласен с восторжествовавшей тьмой! Тебе не удалось склонить меня к ней. Потому гораздо проще меня просто поглотить, нежели склонить.
На устах Савелия сверкала ярчайшая улыбка. Он был доволен тем, что пытался и продолжает пытаться тянуться к свету, хотя его здесь и вовсе не было. Наверное, тем самым светом был он – сам Савелий. Поэтому и хотел некто его поглотить, что и сделал… ведь Савелий мешал воцариться кромешной тьме.

Дмитрий ШОСТАК
Окончил Российский государственный геологоразведочный университет (специальность - геммология). В 2010-2012 годах был слушателем Высших литературных курсов при Литературном институте им.М.Горького. Автор стихов, прозы. Публикации в Сети, в интернет-журналах. Увлекался экстремальными видами спорта.
Окончил Российский государственный геологоразведочный университет (специальность - геммология). В 2010-2012 годах был слушателем Высших литературных курсов при Литературном институте им.М.Горького. Автор стихов, прозы. Публикации в Сети, в интернет-журналах. Увлекался экстремальными видами спорта.
ВЕЩИ И ЗАПАХИ
Тридцать часов без сна, восемнадцать часов за рулем, и осталось проехать всего сто километров. Если не спать более суток, все кажется незначительным, а сам становишься спокойным и невосприимчивым. Наверное, путаю сонливость со скукой. Монотонность дороги разбавляю ненужными обгонами. Я и автомобиль – один механизм. Проверяю систему: скорость сильно не превышаю, бак наполовину полон, внимание – в норме, глазомер исправен, реакция на допустимом уровне. Скучно. Никаких особых эмоций, ни воспоминаний, ни ожиданий.
Дорога поднимается на холм, и с него теперь виден поселок, в котором я вырос: двухэтажные дома, зелень и выпирающий цех судостроительного завода. Спокойствия больше нет: я, словно вор, крадусь в собственное детство, боюсь разоблачения. Проезжаю еще немного и останавливаюсь. Дорога зажата с двух сторон водой: справа – море и дикий пляж; слева – гладь соленого озера, за ней, через три километра – разобранное железнодорожное полотно, а за ним – степь. Она видна отсюда, с тонкой и непрерывной, как лезвие бритвы, линией горизонта. Степь тянется до самого Азова.
Оставляю машину у обочины и иду к пляжу. Песчаная тропинка ведет через колючки и сухую траву. Чтобы ноги не вязли, наступаю всей стопой сразу. Ветер с моря холодит руки. Я сразу узнаю этот особенный запах со слегка сладковатым оттенком гниющих водорослей. Так в детстве пахнет постель, если часто ходишь на море и долго не моешься. Во дворе этого запаха не чувствуешь, там все пахнет солнцем. Двор – пустырь со скелетами качелей – всегда настолько обильно залит светом, что, выходя из подъезда, слепнешь, и звуки становятся глуше. Уже к началу лета во дворе – ни одной травинки, только сухая земля. Тепло лучей на коже и запах пыли – так пахнет солнце. Этот запах можно услышать и в степи, и необязательно летом. На юге весна приходит раньше, и уже в феврале пасмурных дней становится все меньше и меньше. Можно, сачканув с последних двух уроков, не сказав никому из друзей, свернуть с тропинки направо, обогнуть гаражный кооператив и дальше по грунтовой дороге уйти гулять в степь. Солнце греет, и если нет ветра, то совсем не холодно. Степь – сухая и серая. Так можно гулять, не думая ни о чем, подхваченным чужой волей, один, два, три часа подряд. Будто ты зверек, а эти серые травы – твой дом. Дышать воздухом, подобно морским млекопитающим, в каждый вдох вкладывая мысль. Над степью – темно-синее небо, глубокое, как море. Его отмыло за зиму, но к лету оно снова станет выцветшим – просто светло-голубым. Возвращался я всегда вдоль железной дороги. Линия вела к заводу, и по ней кроме товарных вагонов ходил еще пассажирский состав для рабочих: дизель и четыре плацкартных вагона. Когда состав шел мимо домов и улиц поселка, он был обычным стучащим колесами поездом. Но здесь, в степи, поезд становился «настоящим», приехавшим издалека, в его вагонах – интересные люди: путешественники. Они сидят за столиками, рядом лежат книги, перед ними – наполненные стаканы чая. За окном видно море, вдоль берега идет шоссе, рядом – голое озеро, а прямо под насыпью стоит маленький мальчик в школьной форме и машет им рукой.
Морской ветер и запах, принесенный им, потянул меня в магический мир детства. Когда ночами по коридорам бродили привидения, а у каждой вещи в комнате был свой второй скрытый смысл. В детском садике нам всем нужно было рисовать «космическую ракету в космосе», и важным в рисунке была надпись «СССР» на борту. Ее выводили в самом конце с особым наслаждением. Но я не мог этого сделать. У меня была картонная коробка фломастеров «Батуми» с фотографией набережной: большая пальма, угол красивого дома и «Волга» у тротуара. Я знал, что нельзя написать фломастером из этой коробки «СССР», потому что в Батуми идет война, и СССР больше нет. Воспитательница улыбалась, смотря на мою ракету, на которой было написано СНГ, у нее были смущенные и непонимающие глаза. Этого никто не замечал, потому что тогда у всех взрослых были такие. Особенно у дяди Гриши, когда он рассказывал моему отцу, как служил в охране ядерного арсенала на Кизил-Таше, и как в части до расформирования, даже еще до того, как вывезли последние «изделия», уже составлялись списки распродаваемого имущества: военные ЗИЛы, ГАЗы и прочее.
Помню, когда нам выдали буквари, и мы что-то проходили на первых страницах, я всегда пролистывал вперед, где на развороте была карта страны с мультяшно нарисованными лесами, реками, верблюдами и полярниками. Я пытался представить их всех и думал, как же так вышло, что из всех мест на земном шаре я родился именно здесь. Я чувствовал единение с этими людьми, когда из радиоточки в дедушкиной квартире «Маяк» сообщал: «В Петропавловске-Камчатском – полночь». Значит, и там живут люди, говорящие со мной на одном языке, которые уже легли спать, хотя здесь еще даже не наступил вечер.
Я уже учился в институте, когда умерли дед и бабушка. Для раздела наследства следовало продать недвижимость. Процесс освобождения квартиры проходил волнами: приезжали одни родственники, уезжали, потом приезжали другие. Еще до похорон разошлись более ценные вещи, позже – менее ценные, потом оставшееся рассовывалось по друзьям и знакомым, чтобы не выбрасывать. Последним освобождал квартиру я. В день отъезда, не разуваясь, я обходил пустые комнаты. В бывшей спальне на полу стояли настенные часы, и к ним была прислонена трость. Красивая трость с удобной ручкой, подаренная бабушке. Она не сразу начала пользоваться ею, берегла. Давным-давно для бабушки у меня была придумана одна хитрость: совсем маленьким я слышал, что люди очень сожалеют, когда не успевают проститься с умершими родными. «Тогда почему же с ними не проститься, пока они живы?» – думал маленький мальчик, лежа головой на коленях у бабушки; она гладила его по голове, и он прощался с ней. Представлял, что когда-нибудь она умрет (возможно, совсем скоро), и поэтому следует проститься сейчас, чтобы не испытывать горечь потом. А бабушкина рука гладила меня и гладила. Эта же рука, которая сжимала рукоятку трости. С дедом таким образом проститься я не успел. Часы, которые стояли на полу, раньше висели в гостиной. Дед каждое утро становился на стул и заводил их. Или выставлял время, потому что маленькие вредные дети останавливали часы, чтобы они своим боем не мешали спать ночью. Если в одно и то же время совершать одни и те же действия на протяжении многих лет и при этом загадывать одно желание, то можно рассчитывать на чудо, настоящее сверхъестественное чудо. Возможно, дед добивался какого-то чуда, возможно, даже добился.
Эти две вещи, стоящие в абсолютно пустой квартире, в пустой спальне с выцветшими обоями и тусклым паркетом, открыли для меня свой второй смысл. Их нельзя было выбросить, продать или оставить на память. Они жили здесь, где раньше жили два человека.
От ветра пробирает озноб, солнце клонится, и в озере отражается небо. Надо ехать дальше, осталось всего пару километров.
Тридцать часов без сна, восемнадцать часов за рулем, и осталось проехать всего сто километров. Если не спать более суток, все кажется незначительным, а сам становишься спокойным и невосприимчивым. Наверное, путаю сонливость со скукой. Монотонность дороги разбавляю ненужными обгонами. Я и автомобиль – один механизм. Проверяю систему: скорость сильно не превышаю, бак наполовину полон, внимание – в норме, глазомер исправен, реакция на допустимом уровне. Скучно. Никаких особых эмоций, ни воспоминаний, ни ожиданий.
Дорога поднимается на холм, и с него теперь виден поселок, в котором я вырос: двухэтажные дома, зелень и выпирающий цех судостроительного завода. Спокойствия больше нет: я, словно вор, крадусь в собственное детство, боюсь разоблачения. Проезжаю еще немного и останавливаюсь. Дорога зажата с двух сторон водой: справа – море и дикий пляж; слева – гладь соленого озера, за ней, через три километра – разобранное железнодорожное полотно, а за ним – степь. Она видна отсюда, с тонкой и непрерывной, как лезвие бритвы, линией горизонта. Степь тянется до самого Азова.
Оставляю машину у обочины и иду к пляжу. Песчаная тропинка ведет через колючки и сухую траву. Чтобы ноги не вязли, наступаю всей стопой сразу. Ветер с моря холодит руки. Я сразу узнаю этот особенный запах со слегка сладковатым оттенком гниющих водорослей. Так в детстве пахнет постель, если часто ходишь на море и долго не моешься. Во дворе этого запаха не чувствуешь, там все пахнет солнцем. Двор – пустырь со скелетами качелей – всегда настолько обильно залит светом, что, выходя из подъезда, слепнешь, и звуки становятся глуше. Уже к началу лета во дворе – ни одной травинки, только сухая земля. Тепло лучей на коже и запах пыли – так пахнет солнце. Этот запах можно услышать и в степи, и необязательно летом. На юге весна приходит раньше, и уже в феврале пасмурных дней становится все меньше и меньше. Можно, сачканув с последних двух уроков, не сказав никому из друзей, свернуть с тропинки направо, обогнуть гаражный кооператив и дальше по грунтовой дороге уйти гулять в степь. Солнце греет, и если нет ветра, то совсем не холодно. Степь – сухая и серая. Так можно гулять, не думая ни о чем, подхваченным чужой волей, один, два, три часа подряд. Будто ты зверек, а эти серые травы – твой дом. Дышать воздухом, подобно морским млекопитающим, в каждый вдох вкладывая мысль. Над степью – темно-синее небо, глубокое, как море. Его отмыло за зиму, но к лету оно снова станет выцветшим – просто светло-голубым. Возвращался я всегда вдоль железной дороги. Линия вела к заводу, и по ней кроме товарных вагонов ходил еще пассажирский состав для рабочих: дизель и четыре плацкартных вагона. Когда состав шел мимо домов и улиц поселка, он был обычным стучащим колесами поездом. Но здесь, в степи, поезд становился «настоящим», приехавшим издалека, в его вагонах – интересные люди: путешественники. Они сидят за столиками, рядом лежат книги, перед ними – наполненные стаканы чая. За окном видно море, вдоль берега идет шоссе, рядом – голое озеро, а прямо под насыпью стоит маленький мальчик в школьной форме и машет им рукой.
Морской ветер и запах, принесенный им, потянул меня в магический мир детства. Когда ночами по коридорам бродили привидения, а у каждой вещи в комнате был свой второй скрытый смысл. В детском садике нам всем нужно было рисовать «космическую ракету в космосе», и важным в рисунке была надпись «СССР» на борту. Ее выводили в самом конце с особым наслаждением. Но я не мог этого сделать. У меня была картонная коробка фломастеров «Батуми» с фотографией набережной: большая пальма, угол красивого дома и «Волга» у тротуара. Я знал, что нельзя написать фломастером из этой коробки «СССР», потому что в Батуми идет война, и СССР больше нет. Воспитательница улыбалась, смотря на мою ракету, на которой было написано СНГ, у нее были смущенные и непонимающие глаза. Этого никто не замечал, потому что тогда у всех взрослых были такие. Особенно у дяди Гриши, когда он рассказывал моему отцу, как служил в охране ядерного арсенала на Кизил-Таше, и как в части до расформирования, даже еще до того, как вывезли последние «изделия», уже составлялись списки распродаваемого имущества: военные ЗИЛы, ГАЗы и прочее.
Помню, когда нам выдали буквари, и мы что-то проходили на первых страницах, я всегда пролистывал вперед, где на развороте была карта страны с мультяшно нарисованными лесами, реками, верблюдами и полярниками. Я пытался представить их всех и думал, как же так вышло, что из всех мест на земном шаре я родился именно здесь. Я чувствовал единение с этими людьми, когда из радиоточки в дедушкиной квартире «Маяк» сообщал: «В Петропавловске-Камчатском – полночь». Значит, и там живут люди, говорящие со мной на одном языке, которые уже легли спать, хотя здесь еще даже не наступил вечер.
Я уже учился в институте, когда умерли дед и бабушка. Для раздела наследства следовало продать недвижимость. Процесс освобождения квартиры проходил волнами: приезжали одни родственники, уезжали, потом приезжали другие. Еще до похорон разошлись более ценные вещи, позже – менее ценные, потом оставшееся рассовывалось по друзьям и знакомым, чтобы не выбрасывать. Последним освобождал квартиру я. В день отъезда, не разуваясь, я обходил пустые комнаты. В бывшей спальне на полу стояли настенные часы, и к ним была прислонена трость. Красивая трость с удобной ручкой, подаренная бабушке. Она не сразу начала пользоваться ею, берегла. Давным-давно для бабушки у меня была придумана одна хитрость: совсем маленьким я слышал, что люди очень сожалеют, когда не успевают проститься с умершими родными. «Тогда почему же с ними не проститься, пока они живы?» – думал маленький мальчик, лежа головой на коленях у бабушки; она гладила его по голове, и он прощался с ней. Представлял, что когда-нибудь она умрет (возможно, совсем скоро), и поэтому следует проститься сейчас, чтобы не испытывать горечь потом. А бабушкина рука гладила меня и гладила. Эта же рука, которая сжимала рукоятку трости. С дедом таким образом проститься я не успел. Часы, которые стояли на полу, раньше висели в гостиной. Дед каждое утро становился на стул и заводил их. Или выставлял время, потому что маленькие вредные дети останавливали часы, чтобы они своим боем не мешали спать ночью. Если в одно и то же время совершать одни и те же действия на протяжении многих лет и при этом загадывать одно желание, то можно рассчитывать на чудо, настоящее сверхъестественное чудо. Возможно, дед добивался какого-то чуда, возможно, даже добился.
Эти две вещи, стоящие в абсолютно пустой квартире, в пустой спальне с выцветшими обоями и тусклым паркетом, открыли для меня свой второй смысл. Их нельзя было выбросить, продать или оставить на память. Они жили здесь, где раньше жили два человека.
От ветра пробирает озноб, солнце клонится, и в озере отражается небо. Надо ехать дальше, осталось всего пару километров.

Александр ЧЕРНЯК
Коренной ростовчанин. Работал в системе Главного Военно-Строительного Управления МО СССР и на административной работе – заместителем главы администрации столицы Северного флота г. Североморска. Отец двух дочерей, в браке с любимой женой прожил сорок шесть лет. Последние годы работаю в коммерческом предприятии. В 2022-2023 гг. на площадках самиздата опубликовал книги «Лестница в небо», «Непристойное предложение» и несколько рассказов, с которыми можно ознакомиться в интернет-магазинах Ridero, Литрес, Озон и других.
Коренной ростовчанин. Работал в системе Главного Военно-Строительного Управления МО СССР и на административной работе – заместителем главы администрации столицы Северного флота г. Североморска. Отец двух дочерей, в браке с любимой женой прожил сорок шесть лет. Последние годы работаю в коммерческом предприятии. В 2022-2023 гг. на площадках самиздата опубликовал книги «Лестница в небо», «Непристойное предложение» и несколько рассказов, с которыми можно ознакомиться в интернет-магазинах Ridero, Литрес, Озон и других.
РАДА
Сегодня никто из ростовчан и представить себе не может, что река Темерник, природный приток Дона, сегодня называемая горожанами несколько презрительно Темерничкой, три века назад была судоходной. По ширине она занимала почти всю территорию нынешнего железнодорожного вокзала и привокзальную площадь, а это примерно двести пятьдесят-триста метров, а её глубина в некоторых местах достигала трёх метров. Именно здесь в конце XVII века, во время Азовских походов России против Турции, царь Пётр I решил построить ремонтную судоверфь, необходимую в то время для дооснащения оружием и ремонта судов, приплывающих по Дону из Воронежа и устремляющихся дальше для участия в борьбе с турецкими войсками за Азов и Таганрог.
В XVIII веке вдоль берегов Темерника выросли фабрики и заводы, нуждающиеся в чистой воде и сливе отходов. К началу XIX века воды реки начали заболачиваться, река стала мелеть, а про рыбу – леща, сазана, судака, что издревле ловилась в притоке Дона, и которой гордились дончане, пришлось забыть. В результате беспощадной эксплуатации течение Темерника постепенно замедлялось, началось неизбежное заиливание. Питающие реку ключи оказались занесены. Река в низовье начала мелеть и превращаться в клоаку. Так и продолжал течь этот природный донской приток через территорию города. Мелкий, дурно пахнущий, заросший местами по берегам камышом, он нёс в Дон мусор и мутные, непонятного цвета воды. А по берегам реки: на правом вырос главный железнодорожный вокзал Ростова – ворота Северного Кавказа, а на левом берегу – главный автовокзал, крупнейший автобусный узел всего юга России. Тогда, в конце XX века, власти города почистили русло и забетонировали берега реки в районе вокзалов. Очень не хотелось позориться перед приезжающими в город туристами или проезжающими с пересадкой в Ростове-на-Дону гражданами своей страны этим видом жидкой помойки. Конечно, ситуация с Темерничкой после проведённых советскими органами работ несколько улучшилась, но коренным образом не поменялась.
Во время дождей ввиду отсутствия в Ростове эффективной ливневой канализации в Темерник попадает большое количество воды с городских территорий. Тогда из тихой, мутной и тусклой речка превращается в полноводную и быструю, успевающую за короткое время смыть и донести до русла Дона часть оседающих на дно ила и мусора.
Мы стоим напротив главного автовокзала Ростова-на-Дону, куда в ближайшее время должен подойти автобус из Москвы, на котором едет к нам с женой в гости мой давнишний товарищ. Я опираюсь на каменный парапет Темернички, шумящей в своём бетонном ложе после сегодняшнего ночного ливня, и, прикрыв глаза, погружён всем своим существом в поглощение любимого мороженого – волшебного пломбира, покрытого толстым слоем шоколада с жареным арахисом. Мороженое напоминает эскимо только палочкой, торчащей из него, и за которую удобно его держать. В остальном оно значительно больше эскимо, и его хватает для удовлетворения желания в жару съесть мороженое мужчины, редко его употребляющего, но любящего его последние лет двадцать. Дорогая моя жена стоит рядом со мной и с удовольствием ест мороженое, состоящее из вафельного рожка и трёх кругляшков пломбира с соком киви. Лицо её выражает полное удовлетворение этим лакомством, а внутреннее удовольствие от мороженого светится в глазах, обращенных ко мне. Её губы, как магнит, притягивают меня к себе. Нет смысла сопротивляться этому магнетизму, и я отрываюсь от своего удовольствия на палочке, чуть наклоняюсь к Любаше и своими губами в шоколадной глазури прижимаюсь к щеке жены, попав одновременно и на краешек её пломбирных, с киви губ. Этот поцелуй получается сладкий, прохладный, пронизанный любовью к жене и непроходящим уже много лет восторгом от её присутствия рядом. В ответ я получил сказочную улыбку и слова:
– Александр, прекрати хулиганить! Поцелуй, конечно, у тебя получился нестандартно-классным! С одной стороны, готова ответить тебе тем же, но ты же никогда не был сторонником поцелуев на улице, под пристальными и часто осуждающими взглядами окружающих. А с другой стороны, если мы сейчас займёмся поцелуями, то мой рожок с пломбиром и твоё эскимо на палочке начнут таять, и того удовольствия, на которое мы оба рассчитывали, покупая мороженое, мы не получим. Предлагаю получить уже оплаченное наслаждение от этого приятного лакомства. Ну, а наша любовь, милый, станет только крепче, пройдя через испытание замороженным десертом.
– Знаешь, дорогая! Конечно, я не буду кривить душой: целуя тебя, я надеялся на взаимность. Но твоя логика кажется мне железной – свернуть с указанного тобой пути теперь просто невозможно. Возвращаюсь к своему десерту на палочке.
– Санечка! Я всегда знала, что ты – лучший! И каждый твой поцелуй для меня – это тёплый и бесценный луч света. Я могу быть уверена, что такими поцелуями ты не награждал в своей жизни никого из женщин? – ответила Любочка с лицом учительницы подготовительной школы, стоящей перед первоклашками, и погрозила мне пальчиком с маникюром, розовый цвет которого мне очень нравится. Этот цвет как-то приятно перекликается с весной, как временем года, и моим сегодняшним весенним настроением. И я, конечно, жене ответил утвердительно. В том смысле, что жена может быть уверена…
Были только первые числа апреля, самое начало весны, а лето, вопреки сложившимся у нас в регионе температурным графикам, резко подняв температуру воздуха до 23-28 градусов тепла, локтями оттолкнув весну, даже не успевшую зазеленеть набухающими на деревьях почками и только приступившую к своей непростой работе по наполнению всей городской природы энергией просыпающейся земли, вторглось сразу в жизнь горожан.
А ростовчанам, наблюдающим со стороны за борьбой времён года в окружающей природе, ничего не оставалось, как оперативно снять пальто и тёплые куртки, заменив их на подобающую температурам воздуха одежду. В отдельные дни, когда температура воздуха поднялась до 30 градусов, замелькали белые ноги девушек и парней, снявших джинсы и одевших летние шорты. На лицах горожан появились модные чёрные очки, добавляющие загадочности женскому полу и брутальности – мужскому. Автомобилисты стройными рядами, практически одновременно записались на замену зимней резины на летнюю в городских пунктах шиномонтажа. Владельцы дачных участков организованно покрасили фруктовые деревья белой известью, от чего те стали нарядными и радостно отозвались на заботу первыми зелёными почками, а кое-где и листочками, а ветки абрикосов покрылись бело-розовой цветочной композицией, обещающей хороший осенний урожай.
Ночью прошёл сильный дождь, и сегодня Темерник, собирающий воду со всего асфальтобетонного покрытия как центра города, так и городских районов, через которые он протекает, шумел горной речкой, безосновательно угрожая выйти из бетонных берегов и затопить привокзальные площади, хотя ему никто и не верил.
Не успели мы с Любашей вернуться к своим десертам, как раздался детский крик, прервавший высокий полёт супружеского диалога. Мы с Любашей разом повернулись в сторону, откуда раздался шум. Ещё несколько групп граждан, видимо, приезжих, тоже стоящих вдоль бетонного парапета реки Темерник с сумками и без, обернулись на услышанный ими призыв ребёнка:
– Папочка, папочка, смотри, собачка плывёт в речке! Она утонет! Папочка, спаси её! Спаси её!
Мы все увидели кричащую девочку лет семи. Она продолжала кричать и показывать вниз, на полноводный Темерник, пропускающий сегодня через своё русло остатки вчерашнего ночного ливня. Девочка просила отца спасти собаку. В это время её мама стояла рядом, держа на руках грудного ребёнка. На земле возле них стояли несколько сумок и чемодан. Папа пытался удержать дочку:
– Яночка, как же я могу бросить всю нашу семью – тебя, маму, малышку – и броситься в реку? Мы только что приехали в Ростов. Нам надо скоро идти на железнодорожный вокзал, чтобы ехать дальше. Ни я, ни мама не можем ничего сделать!
Девочка начала громко плакать. Она плакала и сквозь слёзы говорила:
– Спаси собачку! Спаси собачку!..
В это время небольшая собачка уже проплывала мимо нас у противоположного берега речки, мелко перебирая маленькими лапками, плывя по-собачьи и пытаясь зацепиться когтями за вертикальные стены русла. Но там ничего кроме бетонных блоков не было. Шансов на победу у собаки было мало. Собравшиеся люди по обоим берегам что-то говорили, охали, по-настоящему переживая, но сделать что-то никто не решался. Некоторые детки давали советы собачке, куда плыть и что ей сделать.
Уже с сопереживанием наблюдая за борьбой собаки за свою жизнь, я увидел, что на пути животного, которого несёт водный поток, из воды торчит толстая коряга, оказавшаяся в речке. Собака ударилась об неё, быстро обхватила её передними лапами, немного подтянулась и положила голову на обломок ствола, часто дыша, широко открыв пасть и изредка коротко воя. Видно было, что ей удалось задними лапами опереться на невидимую часть коряги.
Послышались возгласы людей: «Молодец!.. Держись!.. Отлично!» Кто-то из детей захлопал в ладоши. Только Яночка, обнаружившая первая плывущего щенка, стояла у парапета, зажав свой ротик ручкой, и молча смотрела, как боролась за свою жизнь собачка. А я, наблюдая за этой борьбой, уже знал, что я сделаю в следующее мгновение.
– Любаша, держи, дорогая! – я сунул в свободную от мороженого руку жены свою барсетку.
Несъеденная часть любимого мороженного летит в урну, а я уже бегу к мосту через речку, а по мосту – к противоположному берегу. Перелезаю через перила моста, по конструкциям опоры спускаюсь как можно ниже к воде и отпускаю руки. Вода – мне по грудь. Этот короткий забег с препятствиями занимает не больше половины минуты. Мне надо ещё несколько секунд для того, чтобы привыкнуть к температуре воды; ну, вот, привык…
– Саша, пожалуйста, аккуратней! – это кричит Любаша с моста.
Осматриваюсь: вижу метрах в двадцати выше по течению голову собачки, прижавшуюся к коряге. С трудом иду в сторону животного по дну, заваленному камнями, какими-то железками, навстречу водяному потоку, постепенно приближаясь к зацепившейся за дерево собаке.
При виде меня животное, видимо, увидев во мне своего спасителя и ни секунды не сомневаясь, что я нахожусь в воде исключительно ради неё, перестаёт выть, отпускает спасительную деревяшку, отталкивается от неё и плывёт по течению прямо ко мне в руки. Мне ничего не остаётся, как подхватить её и прижать к груди, тогда как спасённая начинает работать лапами, стараясь как можно выше забраться на меня; правда, я сопротивляюсь её желанию. И у меня получается лучше, чем у неё. Мордочка собачки – прямо напротив моего лица, и я чувствую своей щекой, как она меня благодарно лижет. Я начинаю её успокаивать дружеским тоном, объясняя ей, что все её проблемы уже позади, что мы сейчас выберемся на землю, что она точно уже не утонет. Сегодня долго я с ней бултыхаться в воде не могу, так как нам надо ещё встретить друга, поэтому мы возвращаемся к мосту. С обоих берегов речки слышу не бурные, но аплодисменты. Признаюсь: они приятны! Не часто в обычной жизни слышишь аплодисменты в свой адрес!
Ещё я слышу голос Любаши, стоящей у перил моста:
– Санечка, ты – умничка! Я тебя люблю!
И тут же слышу знакомый голос московского гостя:
– Санёк, сегодня первый тост пью за лучшего спасателя животных Ростова – за тебя!
Я поворачиваюсь лицом к мосту и машу Любочке и Жене рукой. Отлично, наш друг уже приехал! Начинаю двигаться обратно, в сторону моста, прижимая к себе тёплое, ещё дрожащее тельце спасённой. Вижу, что спасенная собачка – девочка.
Через несколько минут мы уже на мосту обнимаемся с Женькой:
– Саня, вот мы и встретились! Я приехал на автобусе, а ты приплыл. Не думал, что эти два вида транспорта так оригинально пересекаются в Ростове. Скажу тебе больше: обнимать тебя и прижимать тебя к груди как-то не очень приятно, потому что мокро. Я лучше обниму Любочку! Кстати, не про тебя ли писал свой известный рассказ Тургенев, дав главному герою имя Герасим…
– Боюсь тебя разочаровать, Евгений. С Тургеневым я не был лично знаком и не могу пояснить, с кого именно списан образ Герасима, через века дошедший до нынешних поколений.
Мы, все трое, громко смеёмся и продолжаем обниматься на мосту, а у моих ног скромно сидит спасённая собачка и терпеливо ждёт, когда на неё обратит внимание её спаситель. Она никак не отреагировала ни на мою жену, присевшую перед ней на корточки и разговаривающую с ней ласково и успокаивающе, ни на девочку Яну, вырвавшую свою руку из папиной ладони и прибежавшую погладить и пожалеть бедную псинку. Конечно, собака не могла сообразить, что если бы не сострадание маленького ребёнка, никто бы не увидел тонущую в реке собаку.
Ко мне подошёл отец Яны, пожал мне руку и как-то виновато сказал, что я – молодец!
– У вас очень добрая и отзывчивая дочка. Ею уже нужно гордиться! Если бы не Яна, собака бы утонула наверняка. Кстати, если бы я был на вашем месте, я бы тоже не полез спасать собаку. Думаю, ответственность за семью важнее! И оставлять их даже на короткое время было бы неразумно. Поэтому я не вижу и капли вашей вины в том, что вы не откликнулись на зов дочери.
– Спасибо за то, что вы только что сказали мне. Для меня это очень важно, – ответил папа Яны. А потом добавил:
– Нашей дочке семь лет, но она уже обладает даром убеждения. Яна стала нашим семейным центром внимания. Она окружающих притягивает к себе, как магнит, и мы все, её родные, получаем удовольствие от разговоров с ней.
Я стоял у перил моста; справа от меня уже стояла Любаня, держа меня за руку выше локтя, а слева – Евгений. Он внимательно рассматривал нижнюю половину моего туловища, изредка снимал с меня двумя пальцами прилипшие к моей одежде останки каких-то растений, нитки и части антибактериальных салфеток, бросал в реку с брезгливым выражением лица, продолжая и дальше меня исследовать – чем бы ещё позабавиться…
– Развлекаешься, гад? Ну-ну… – наклонившись немного к другу, произнёс я, конечно, с любовью и так тихо, что услышать меня мог только он.
– Знаешь, Санёчик, ты думаешь, было бы лучше, если бы я фотографировал тебя со всех сторон, выложил бы в Интернет с заголовком «Герои среди нас» и рассказом о совершённом тобой подвиге в отношении собачонки?
– Ну, во-первых, чтобы написать про меня рассказ, ты должен, по законам жанра, взять у меня интервью. Давать ли тебе интервью? Не знаю! Надо посоветоваться с женой. Тем более, думаю, что моя фотография в сегодняшнем плачевно-мокром состоянии не сможет заразить героическим энтузиазмом хотя бы одного читателя твоей информации.
– Твоя мысль насквозь пронизана сарказмом, но тут с тобой не поспоришь! Выглядишь ты не ахти! – произнёс задумчиво Евгений, ещё раз придирчиво осмотрев нижнюю часть моей фигуры. В это же время Любаша сказала мне, что интервью Евгению разрешит дать только у нас дома, после принятия мною душа, исключительно, сидя за накрытым столом. Мы с Женей сразу согласились.
Яна продолжала общение со спасённым животным, гладила её то одной рукой, то другой и говорила ей какие-то добрые слова; затем, выпрямившись, произнесла, повернувшись к отцу:
– Папулечка, давай посоветуемся с мамочкой и заберём собачку к нам домой!
– Яночка, мы сейчас идём садиться на поезд для того, чтобы ехать домой. Нас с собакой в поезд не пустят, ведь у неё нет не только билета, но ещё и паспорта!
– Да, ты, конечно, прав, папочка! – сказала, подумав Яна. Потом подняла глаза на меня и, встретившись с моим взглядом, произнесла:
– Дядя, вы спасли эту собачку, и вы же понимаете, что оставлять её на улице после всего, что с ней произошло, нечестно. Вы не представляете, как мы все будем признательны вам и вашей тёте, – Яна внимательно посмотрела на Любашу, – если вы заберёте её к себе домой и будете заботиться о ней и любить её. Я уверена, что она отплатит любовью вам и вашей…
– …жене, – подсказал я, завершив её монолог, очень нехарактерный для семилетнего ребёнка.
Но Яна решила, видимо, добиться ясности в нашем с ней разговоре и продолжила:
– Дядечка, спасённая собачка рада своему спасению и не хочет расставаться со своим спасителем. Это она сказала мне сама. По секрету! Не выдавайте меня, если она спросит!
– Конечно, не выдам! Об этом не беспокойся! Я умею хранить чужие секреты. Раз собака рада, то мы с женой назовём её Рада! Любаша, как тебе имя для собаки?
– Мне нравится! Радость и любовь часто в жизни идут рядом. Пусть будет Рада. И потом, если Яна советует, значит, мы с дядей Сашей забираем Раду жить к нам домой.
Яна вдруг раскрыла свои маленькие объятия и прижалась в Любаше:
– Тётя Любочка, вы такая хорошая! Поэтому дядя Саша вас и любит!
Ну, тут все, включая папу Яны, рассмеялись.
А я, подтвердив догадку Яны, добавил, улыбаясь:
– Тётя Любочка у нас замечательная! И я её очень сильно люблю! А тебе, Яночка, и твоей семье мы все желаем счастливой дороги домой!
– Спасибо большое, – одновременно сказали Яна и её папа. После чего, взявшись за руки, направились к стоящей невдалеке маме с Яниной сестрёнкой на руках, с сумками и чемоданом на колёсиках, стоявших вокруг неё.
Я взял собачку на руки. Она сразу прижалась ко мне, будто понимая, что она не только спаслась сегодня, но и нашла свой дом и заботливых хозяев. Мы, теперь вчетвером, направились к нашей машине, чтобы ехать домой. После нашей совместной с Женей работы в Заполярье мы не виделись больше десяти лет. А телефонные разговоры разве могут заменить радость живой встречи? Конечно, нет! Нам есть о чём поговорить. Да и праздничный ужин для нашего гостя Любочка приготовила. У нас дома найдётся еда и кров и для Рады.
Сегодня никто из ростовчан и представить себе не может, что река Темерник, природный приток Дона, сегодня называемая горожанами несколько презрительно Темерничкой, три века назад была судоходной. По ширине она занимала почти всю территорию нынешнего железнодорожного вокзала и привокзальную площадь, а это примерно двести пятьдесят-триста метров, а её глубина в некоторых местах достигала трёх метров. Именно здесь в конце XVII века, во время Азовских походов России против Турции, царь Пётр I решил построить ремонтную судоверфь, необходимую в то время для дооснащения оружием и ремонта судов, приплывающих по Дону из Воронежа и устремляющихся дальше для участия в борьбе с турецкими войсками за Азов и Таганрог.
В XVIII веке вдоль берегов Темерника выросли фабрики и заводы, нуждающиеся в чистой воде и сливе отходов. К началу XIX века воды реки начали заболачиваться, река стала мелеть, а про рыбу – леща, сазана, судака, что издревле ловилась в притоке Дона, и которой гордились дончане, пришлось забыть. В результате беспощадной эксплуатации течение Темерника постепенно замедлялось, началось неизбежное заиливание. Питающие реку ключи оказались занесены. Река в низовье начала мелеть и превращаться в клоаку. Так и продолжал течь этот природный донской приток через территорию города. Мелкий, дурно пахнущий, заросший местами по берегам камышом, он нёс в Дон мусор и мутные, непонятного цвета воды. А по берегам реки: на правом вырос главный железнодорожный вокзал Ростова – ворота Северного Кавказа, а на левом берегу – главный автовокзал, крупнейший автобусный узел всего юга России. Тогда, в конце XX века, власти города почистили русло и забетонировали берега реки в районе вокзалов. Очень не хотелось позориться перед приезжающими в город туристами или проезжающими с пересадкой в Ростове-на-Дону гражданами своей страны этим видом жидкой помойки. Конечно, ситуация с Темерничкой после проведённых советскими органами работ несколько улучшилась, но коренным образом не поменялась.
Во время дождей ввиду отсутствия в Ростове эффективной ливневой канализации в Темерник попадает большое количество воды с городских территорий. Тогда из тихой, мутной и тусклой речка превращается в полноводную и быструю, успевающую за короткое время смыть и донести до русла Дона часть оседающих на дно ила и мусора.
Мы стоим напротив главного автовокзала Ростова-на-Дону, куда в ближайшее время должен подойти автобус из Москвы, на котором едет к нам с женой в гости мой давнишний товарищ. Я опираюсь на каменный парапет Темернички, шумящей в своём бетонном ложе после сегодняшнего ночного ливня, и, прикрыв глаза, погружён всем своим существом в поглощение любимого мороженого – волшебного пломбира, покрытого толстым слоем шоколада с жареным арахисом. Мороженое напоминает эскимо только палочкой, торчащей из него, и за которую удобно его держать. В остальном оно значительно больше эскимо, и его хватает для удовлетворения желания в жару съесть мороженое мужчины, редко его употребляющего, но любящего его последние лет двадцать. Дорогая моя жена стоит рядом со мной и с удовольствием ест мороженое, состоящее из вафельного рожка и трёх кругляшков пломбира с соком киви. Лицо её выражает полное удовлетворение этим лакомством, а внутреннее удовольствие от мороженого светится в глазах, обращенных ко мне. Её губы, как магнит, притягивают меня к себе. Нет смысла сопротивляться этому магнетизму, и я отрываюсь от своего удовольствия на палочке, чуть наклоняюсь к Любаше и своими губами в шоколадной глазури прижимаюсь к щеке жены, попав одновременно и на краешек её пломбирных, с киви губ. Этот поцелуй получается сладкий, прохладный, пронизанный любовью к жене и непроходящим уже много лет восторгом от её присутствия рядом. В ответ я получил сказочную улыбку и слова:
– Александр, прекрати хулиганить! Поцелуй, конечно, у тебя получился нестандартно-классным! С одной стороны, готова ответить тебе тем же, но ты же никогда не был сторонником поцелуев на улице, под пристальными и часто осуждающими взглядами окружающих. А с другой стороны, если мы сейчас займёмся поцелуями, то мой рожок с пломбиром и твоё эскимо на палочке начнут таять, и того удовольствия, на которое мы оба рассчитывали, покупая мороженое, мы не получим. Предлагаю получить уже оплаченное наслаждение от этого приятного лакомства. Ну, а наша любовь, милый, станет только крепче, пройдя через испытание замороженным десертом.
– Знаешь, дорогая! Конечно, я не буду кривить душой: целуя тебя, я надеялся на взаимность. Но твоя логика кажется мне железной – свернуть с указанного тобой пути теперь просто невозможно. Возвращаюсь к своему десерту на палочке.
– Санечка! Я всегда знала, что ты – лучший! И каждый твой поцелуй для меня – это тёплый и бесценный луч света. Я могу быть уверена, что такими поцелуями ты не награждал в своей жизни никого из женщин? – ответила Любочка с лицом учительницы подготовительной школы, стоящей перед первоклашками, и погрозила мне пальчиком с маникюром, розовый цвет которого мне очень нравится. Этот цвет как-то приятно перекликается с весной, как временем года, и моим сегодняшним весенним настроением. И я, конечно, жене ответил утвердительно. В том смысле, что жена может быть уверена…
Были только первые числа апреля, самое начало весны, а лето, вопреки сложившимся у нас в регионе температурным графикам, резко подняв температуру воздуха до 23-28 градусов тепла, локтями оттолкнув весну, даже не успевшую зазеленеть набухающими на деревьях почками и только приступившую к своей непростой работе по наполнению всей городской природы энергией просыпающейся земли, вторглось сразу в жизнь горожан.
А ростовчанам, наблюдающим со стороны за борьбой времён года в окружающей природе, ничего не оставалось, как оперативно снять пальто и тёплые куртки, заменив их на подобающую температурам воздуха одежду. В отдельные дни, когда температура воздуха поднялась до 30 градусов, замелькали белые ноги девушек и парней, снявших джинсы и одевших летние шорты. На лицах горожан появились модные чёрные очки, добавляющие загадочности женскому полу и брутальности – мужскому. Автомобилисты стройными рядами, практически одновременно записались на замену зимней резины на летнюю в городских пунктах шиномонтажа. Владельцы дачных участков организованно покрасили фруктовые деревья белой известью, от чего те стали нарядными и радостно отозвались на заботу первыми зелёными почками, а кое-где и листочками, а ветки абрикосов покрылись бело-розовой цветочной композицией, обещающей хороший осенний урожай.
Ночью прошёл сильный дождь, и сегодня Темерник, собирающий воду со всего асфальтобетонного покрытия как центра города, так и городских районов, через которые он протекает, шумел горной речкой, безосновательно угрожая выйти из бетонных берегов и затопить привокзальные площади, хотя ему никто и не верил.
Не успели мы с Любашей вернуться к своим десертам, как раздался детский крик, прервавший высокий полёт супружеского диалога. Мы с Любашей разом повернулись в сторону, откуда раздался шум. Ещё несколько групп граждан, видимо, приезжих, тоже стоящих вдоль бетонного парапета реки Темерник с сумками и без, обернулись на услышанный ими призыв ребёнка:
– Папочка, папочка, смотри, собачка плывёт в речке! Она утонет! Папочка, спаси её! Спаси её!
Мы все увидели кричащую девочку лет семи. Она продолжала кричать и показывать вниз, на полноводный Темерник, пропускающий сегодня через своё русло остатки вчерашнего ночного ливня. Девочка просила отца спасти собаку. В это время её мама стояла рядом, держа на руках грудного ребёнка. На земле возле них стояли несколько сумок и чемодан. Папа пытался удержать дочку:
– Яночка, как же я могу бросить всю нашу семью – тебя, маму, малышку – и броситься в реку? Мы только что приехали в Ростов. Нам надо скоро идти на железнодорожный вокзал, чтобы ехать дальше. Ни я, ни мама не можем ничего сделать!
Девочка начала громко плакать. Она плакала и сквозь слёзы говорила:
– Спаси собачку! Спаси собачку!..
В это время небольшая собачка уже проплывала мимо нас у противоположного берега речки, мелко перебирая маленькими лапками, плывя по-собачьи и пытаясь зацепиться когтями за вертикальные стены русла. Но там ничего кроме бетонных блоков не было. Шансов на победу у собаки было мало. Собравшиеся люди по обоим берегам что-то говорили, охали, по-настоящему переживая, но сделать что-то никто не решался. Некоторые детки давали советы собачке, куда плыть и что ей сделать.
Уже с сопереживанием наблюдая за борьбой собаки за свою жизнь, я увидел, что на пути животного, которого несёт водный поток, из воды торчит толстая коряга, оказавшаяся в речке. Собака ударилась об неё, быстро обхватила её передними лапами, немного подтянулась и положила голову на обломок ствола, часто дыша, широко открыв пасть и изредка коротко воя. Видно было, что ей удалось задними лапами опереться на невидимую часть коряги.
Послышались возгласы людей: «Молодец!.. Держись!.. Отлично!» Кто-то из детей захлопал в ладоши. Только Яночка, обнаружившая первая плывущего щенка, стояла у парапета, зажав свой ротик ручкой, и молча смотрела, как боролась за свою жизнь собачка. А я, наблюдая за этой борьбой, уже знал, что я сделаю в следующее мгновение.
– Любаша, держи, дорогая! – я сунул в свободную от мороженого руку жены свою барсетку.
Несъеденная часть любимого мороженного летит в урну, а я уже бегу к мосту через речку, а по мосту – к противоположному берегу. Перелезаю через перила моста, по конструкциям опоры спускаюсь как можно ниже к воде и отпускаю руки. Вода – мне по грудь. Этот короткий забег с препятствиями занимает не больше половины минуты. Мне надо ещё несколько секунд для того, чтобы привыкнуть к температуре воды; ну, вот, привык…
– Саша, пожалуйста, аккуратней! – это кричит Любаша с моста.
Осматриваюсь: вижу метрах в двадцати выше по течению голову собачки, прижавшуюся к коряге. С трудом иду в сторону животного по дну, заваленному камнями, какими-то железками, навстречу водяному потоку, постепенно приближаясь к зацепившейся за дерево собаке.
При виде меня животное, видимо, увидев во мне своего спасителя и ни секунды не сомневаясь, что я нахожусь в воде исключительно ради неё, перестаёт выть, отпускает спасительную деревяшку, отталкивается от неё и плывёт по течению прямо ко мне в руки. Мне ничего не остаётся, как подхватить её и прижать к груди, тогда как спасённая начинает работать лапами, стараясь как можно выше забраться на меня; правда, я сопротивляюсь её желанию. И у меня получается лучше, чем у неё. Мордочка собачки – прямо напротив моего лица, и я чувствую своей щекой, как она меня благодарно лижет. Я начинаю её успокаивать дружеским тоном, объясняя ей, что все её проблемы уже позади, что мы сейчас выберемся на землю, что она точно уже не утонет. Сегодня долго я с ней бултыхаться в воде не могу, так как нам надо ещё встретить друга, поэтому мы возвращаемся к мосту. С обоих берегов речки слышу не бурные, но аплодисменты. Признаюсь: они приятны! Не часто в обычной жизни слышишь аплодисменты в свой адрес!
Ещё я слышу голос Любаши, стоящей у перил моста:
– Санечка, ты – умничка! Я тебя люблю!
И тут же слышу знакомый голос московского гостя:
– Санёк, сегодня первый тост пью за лучшего спасателя животных Ростова – за тебя!
Я поворачиваюсь лицом к мосту и машу Любочке и Жене рукой. Отлично, наш друг уже приехал! Начинаю двигаться обратно, в сторону моста, прижимая к себе тёплое, ещё дрожащее тельце спасённой. Вижу, что спасенная собачка – девочка.
Через несколько минут мы уже на мосту обнимаемся с Женькой:
– Саня, вот мы и встретились! Я приехал на автобусе, а ты приплыл. Не думал, что эти два вида транспорта так оригинально пересекаются в Ростове. Скажу тебе больше: обнимать тебя и прижимать тебя к груди как-то не очень приятно, потому что мокро. Я лучше обниму Любочку! Кстати, не про тебя ли писал свой известный рассказ Тургенев, дав главному герою имя Герасим…
– Боюсь тебя разочаровать, Евгений. С Тургеневым я не был лично знаком и не могу пояснить, с кого именно списан образ Герасима, через века дошедший до нынешних поколений.
Мы, все трое, громко смеёмся и продолжаем обниматься на мосту, а у моих ног скромно сидит спасённая собачка и терпеливо ждёт, когда на неё обратит внимание её спаситель. Она никак не отреагировала ни на мою жену, присевшую перед ней на корточки и разговаривающую с ней ласково и успокаивающе, ни на девочку Яну, вырвавшую свою руку из папиной ладони и прибежавшую погладить и пожалеть бедную псинку. Конечно, собака не могла сообразить, что если бы не сострадание маленького ребёнка, никто бы не увидел тонущую в реке собаку.
Ко мне подошёл отец Яны, пожал мне руку и как-то виновато сказал, что я – молодец!
– У вас очень добрая и отзывчивая дочка. Ею уже нужно гордиться! Если бы не Яна, собака бы утонула наверняка. Кстати, если бы я был на вашем месте, я бы тоже не полез спасать собаку. Думаю, ответственность за семью важнее! И оставлять их даже на короткое время было бы неразумно. Поэтому я не вижу и капли вашей вины в том, что вы не откликнулись на зов дочери.
– Спасибо за то, что вы только что сказали мне. Для меня это очень важно, – ответил папа Яны. А потом добавил:
– Нашей дочке семь лет, но она уже обладает даром убеждения. Яна стала нашим семейным центром внимания. Она окружающих притягивает к себе, как магнит, и мы все, её родные, получаем удовольствие от разговоров с ней.
Я стоял у перил моста; справа от меня уже стояла Любаня, держа меня за руку выше локтя, а слева – Евгений. Он внимательно рассматривал нижнюю половину моего туловища, изредка снимал с меня двумя пальцами прилипшие к моей одежде останки каких-то растений, нитки и части антибактериальных салфеток, бросал в реку с брезгливым выражением лица, продолжая и дальше меня исследовать – чем бы ещё позабавиться…
– Развлекаешься, гад? Ну-ну… – наклонившись немного к другу, произнёс я, конечно, с любовью и так тихо, что услышать меня мог только он.
– Знаешь, Санёчик, ты думаешь, было бы лучше, если бы я фотографировал тебя со всех сторон, выложил бы в Интернет с заголовком «Герои среди нас» и рассказом о совершённом тобой подвиге в отношении собачонки?
– Ну, во-первых, чтобы написать про меня рассказ, ты должен, по законам жанра, взять у меня интервью. Давать ли тебе интервью? Не знаю! Надо посоветоваться с женой. Тем более, думаю, что моя фотография в сегодняшнем плачевно-мокром состоянии не сможет заразить героическим энтузиазмом хотя бы одного читателя твоей информации.
– Твоя мысль насквозь пронизана сарказмом, но тут с тобой не поспоришь! Выглядишь ты не ахти! – произнёс задумчиво Евгений, ещё раз придирчиво осмотрев нижнюю часть моей фигуры. В это же время Любаша сказала мне, что интервью Евгению разрешит дать только у нас дома, после принятия мною душа, исключительно, сидя за накрытым столом. Мы с Женей сразу согласились.
Яна продолжала общение со спасённым животным, гладила её то одной рукой, то другой и говорила ей какие-то добрые слова; затем, выпрямившись, произнесла, повернувшись к отцу:
– Папулечка, давай посоветуемся с мамочкой и заберём собачку к нам домой!
– Яночка, мы сейчас идём садиться на поезд для того, чтобы ехать домой. Нас с собакой в поезд не пустят, ведь у неё нет не только билета, но ещё и паспорта!
– Да, ты, конечно, прав, папочка! – сказала, подумав Яна. Потом подняла глаза на меня и, встретившись с моим взглядом, произнесла:
– Дядя, вы спасли эту собачку, и вы же понимаете, что оставлять её на улице после всего, что с ней произошло, нечестно. Вы не представляете, как мы все будем признательны вам и вашей тёте, – Яна внимательно посмотрела на Любашу, – если вы заберёте её к себе домой и будете заботиться о ней и любить её. Я уверена, что она отплатит любовью вам и вашей…
– …жене, – подсказал я, завершив её монолог, очень нехарактерный для семилетнего ребёнка.
Но Яна решила, видимо, добиться ясности в нашем с ней разговоре и продолжила:
– Дядечка, спасённая собачка рада своему спасению и не хочет расставаться со своим спасителем. Это она сказала мне сама. По секрету! Не выдавайте меня, если она спросит!
– Конечно, не выдам! Об этом не беспокойся! Я умею хранить чужие секреты. Раз собака рада, то мы с женой назовём её Рада! Любаша, как тебе имя для собаки?
– Мне нравится! Радость и любовь часто в жизни идут рядом. Пусть будет Рада. И потом, если Яна советует, значит, мы с дядей Сашей забираем Раду жить к нам домой.
Яна вдруг раскрыла свои маленькие объятия и прижалась в Любаше:
– Тётя Любочка, вы такая хорошая! Поэтому дядя Саша вас и любит!
Ну, тут все, включая папу Яны, рассмеялись.
А я, подтвердив догадку Яны, добавил, улыбаясь:
– Тётя Любочка у нас замечательная! И я её очень сильно люблю! А тебе, Яночка, и твоей семье мы все желаем счастливой дороги домой!
– Спасибо большое, – одновременно сказали Яна и её папа. После чего, взявшись за руки, направились к стоящей невдалеке маме с Яниной сестрёнкой на руках, с сумками и чемоданом на колёсиках, стоявших вокруг неё.
Я взял собачку на руки. Она сразу прижалась ко мне, будто понимая, что она не только спаслась сегодня, но и нашла свой дом и заботливых хозяев. Мы, теперь вчетвером, направились к нашей машине, чтобы ехать домой. После нашей совместной с Женей работы в Заполярье мы не виделись больше десяти лет. А телефонные разговоры разве могут заменить радость живой встречи? Конечно, нет! Нам есть о чём поговорить. Да и праздничный ужин для нашего гостя Любочка приготовила. У нас дома найдётся еда и кров и для Рады.

Андрей ДОНЕЦ
Родился 48 лет назад в Киеве. С 15 лет живу в Израиле, где работал в русскоязычных газетах, затем поступил на медицинский. 20 лет проработал в психиатрии. Параллельно печатался в российских изданиях.
Родился 48 лет назад в Киеве. С 15 лет живу в Израиле, где работал в русскоязычных газетах, затем поступил на медицинский. 20 лет проработал в психиатрии. Параллельно печатался в российских изданиях.
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛА Ш.
Каждое утро, кроме пятницы и субботы, Михаил Ш. встаёт, чистит зубы, завтракает и отправляется на работу. Сначала пешком, проходными дворами, с полчаса до остановки, а потом ещё минут пятнадцать на автобусе. Всё обычно, казалось бы. И сам Михаил, на первый взгляд, вполне обычный, даже импозантный мужчина: слегка за сорок, со вкусом одет. Умён, начитан, отличный собеседник. Обычный, да вот только одно «но»: Миша болен. Тяжело и, скорей всего, навсегда. Шизофренией. Вся жизнь наперекосяк: ни семьи, ни детей, ни профессии. Болезнь впервые проявилась в юности, и с тех пор, до приезда в Израиль, Миша почти всё время кочевал по больницам. В России домой редко отпускали. Здесь же, у нас, лекарства понадёжней – крепко держат «в седле». Болезнь отступила, дала передых. Уже полгода, как не попадал в больницу. Но… Он вернётся туда. Как медик понимаю это лучше других.
А пока мы едем в сумасшедший дом. Он – на работу. Я – на экскурсию… Сейчас Миша здесь не лечится, а работает. Место называется «Отделение трудотерапии при Беэр-Шевском центре душевного здоровья»… Миша работает реабилитируемым.
…Эту систему придумали, как и всё у нас, в Америке, правда, не от хорошей жизни. Раньше душевнобольных пожизненно содержали в больницах. С годами стационар дорожал, и власти, дабы сэкономить, затеяли реформу. Всех сколь-либо способных обслужить себя больных, согласно нововведениям, следовало выписать на волю. Но нетрудно представить: человек, ничего, кроме сумасшедшего дома, не видавший, никак не приспособлен к вольной жизни. Поэтому к свободе его решили приучать постепенно, через ту же трудотерапию.
В Америке реформа провалилась. С треском. Выписанные больные в большинстве своём на воле не прижились и нынче бомжуют по городам и весям самой свободной страны.
Израильтяне же усердно адаптируют неудачный опыт старшего брата. И выписывают всех, кого можно, и трудом врачуют.
…Хорошо в сумасшедшем доме. Тихо, уютно, прибрано. Палисадники в цвету вдоль мощёных аллей. Невысокие корпуса отделений чем-то похожи на саркофаг четвёртого реактора ЧАЭС. Правда, весёленькие, светло-бежевые. Кругом разгуливают шизофреники: приветливые и агрессивные, весёлые и безразличные.
Посередине – площадь с фонтаном. Фонтан, вопреки надеждам депрессивных, неглубокий. Рядом с ним – кафе, магазины для прихожан-посетителей… Одна беда: мочой повсюду несёт, и чем ближе к стене, тем сильней…
…Он (Михаил Ш.) вернётся cюда скоро, может, навсегда. То, о чём он сегодня расскажет, станет его повседневностью. Верить или нет, каждый решит сам для себя… Чем тут поможешь. Но тогда хоть выслушаешь сумасшедшего человека. Пока можно.
Работа
Работа, как любая другая, пять раз в неделю, с восьми до двенадцати. Собираем, клеим, шьём, пакуем. Жаль только, что платят мало…
Мало – это сто шекелей. В месяц. За ежедневную работу.
Что за работа? В разных комнатах по-разному. В основном пакуем. Укладываем одноразовые ложки.
Другие собирают наборы для «Эль-Аля», пакетик: вилка, ножик, соль, перец. Да ты видел их тысячу раз в самолётах. Пакетик, он изначально – склеенный, и разлепить его, чтоб наполнить, адский труд.
Есть комната, где к шахматным фигуркам бархатные лоскутки приклеивают. Казалось бы: что за работа! А знать нужно, к какой фигуре – какой лоскуток. Да и платят «шахматистам» по пятьдесят шекелей в месяц…
А я сейчас в лучшем нашем, элитном, отделении. Мозаикой занимаюсь. Есть у нас и художники, и чеканщики. Работа куда интересней, так вот, видишь, стольник заплатили. На этих постылых мне ложках я имел сто с полтиной…
Наказания
В одном отделе можно и припоздниться, и не вкалывать особенно, и – ничего, пройдёт. А в других опоздал на несколько минут, десять шекелей из зарплаты – вон. Не побрился, ещё десять шекелей минус, не принял душ, опять отымут десятку. Принюхиваются. А ты представить себе не можешь: когда плохо, когда задавлен этими лекарствами, помыться-побриться – это тяжкий труд. Я себе бороду отрастил, чтоб не бриться, сил нет… Вставать каждый день в семь утра – тоже пытка. А бросить жалко, да и врачи говорят: режим, полезно… Если б вообще ничего не платили, бросил бы, конечно. Живу на сущие гроши, каждый шекель на учёте. С этой сотней я хоть что-то могу себе позволить…
Устроиться бы в другое место, где платят тот же минимум, да куда?! Кому мы нужны… Живём, кто как может. Один, бывший адвокат, печёт дома оладьи и продаёт их здесь по пять шекелей штука. Кто-то купит пачку сигарет и потом торгует в розницу, по шекелю каждая. Ещё купят бутылку колы, продают на разлив…
Но всё равно лучше так, чем опять в больницу.
Милосердие
Чего мочой-то несёт, нас несколько раз на день выгоняют из палат на прогулки, два-три часа каждая. И если тебе приспичило — твои проблемы. В туалет не пустят. Ведь медбрат в таком случае тебя должен сопроводить. А он отказывается: мол, перетерпите. Терпеть – не терпит никто, где стоят, там и… И спят там же, между говна. Какие прогулки в жару, с лекарств! Еле на ногах держишься…
Душевные у нас медбратья. Подходит ко мне как-то один такой душевный перед сном. Наш, «русский». Говорит: «Сейчас я сделаю тебе укол. Ты от него ночью обо…ся. Но учти: я тебя мыть не буду». Так и было. После сопрел весь, долго маялся…
В «буйных»…
Голодно в «буйных». Если привозят еду (курицу, например), её сначала персонал разбирает. Остатки «выбрасывают» больным. На всех не хватает. Кто посильней, подходит к слабым, отбирает. Если тот сопротивляется, бьют. Здесь же, на месте. И потом тоже изобьют. Для профилактики.
А эти… персонал. Стоят, смотрят… Они в наши дела не вмешиваются. Хотя когда как. Однажды я в «открытом» лежал, к нам сбежал какой-то дедок из «буйного». Увидал телегу с едой, подскочил, начал всё подряд надкусывать… Весь обед нам перепортил. А дедок хиленький. Я взял его аккуратно под руки, пытаюсь оттащить от еды; не даётся! Сёстры увидали, позвали санитаров. Меня же и скрутили, дали аминазин…
…Что – еды! Элементарного – подушек в «буйном» вечно не хватает. Жуткие драки из-за подушек, воруют их друг у друга. А не дай Бог, у пахана подушку стащить – всё, незачем тебе подушка после этого…
Бывалых у нас достаточно… Особенно в «буйных». Это – зона. Только вместо ВОХРа – санитары, аминазин вместо карцера.
Любовь
В «буйных» отделениях мужики и бабы в одной палате лежат. Секс – много его, обычно в туалет за этим идут, но иногда тут же, в палате, при всех. Одной бабёнке курить захотелось. Сосед её по палате рядом с нею дымил. Говорит ему: «Хоть чинарик оставь, а?» «Отстрочи, милая, – отвечает, – тогда оставлю». И что? Отстрочила ничтоже сумнящеся. И докурила потом – заработала. Минет за окурок да ещё и при всех – дело у нас обычное. Другие бабы, кто покультурней, делают это в клозетах и по двадцатнику за раз берут. Не всё, конечно…
Наши бабы, много наших…
…Сходятся у нас иногда. Не семья, но всё равно – не один. Была пара: оба «глуховые» (деградированные), жить им было негде, лежали в больнице много лет. А потом их выгнали. На улицу.
Лечение
Я только поступил в «открытое». Так на душе было тошно, не мог уже – поговорить нужно было. Срочно. А смена – ночная; иду к сёстрам, прошу: доктора позовите, плохо мне. А мы по таким пустякам врачей не беспокоим, отвечают. Я не то чтоб разбушевался, прикрикнул. Прибежала врач. Выслушивать меня и не собиралась, наоборот, наорала и говорит: выбирай себе наказание (за то, что крикнул); или привяжем тебя, или укол. Я выбрал укол. Мамочка родная! Что со мной после укола этого сделалось… Я был, как сомнамбула. Где находишься, не понимаешь. Сознание включается лишь на несколько секунд, а потом пропадает. Пытался до туалета дойти… Всю ночь блуждал; куда только не попадал: и в женское отделение, и в другие корпуса. Потом мои вещи по всей больнице находили. А до туалета я так и не дошёл… И не помню почти ничего.
Труд
Перед выпиской перевели меня в лёгкое оздоровительное отделение. Там ещё старый заведующий был. Так у него (то ли метода такая, то ли на уборщицах экономил) уборкой корпуса занимались только больные. Вторник и пятницу драили палаты и туалеты, раз в месяц – весь коридор. В столовой посуду мыли, столы протирали. Заведующий ходил за нами, проверял, хорошо моем или нет. Баллы ставил, потом подсчитывал. Каждую пятницу устраивал общие собрания в столовой, оглашал результаты «соцсоревнования». Тому, кто хорошо драил, приз – шоколадка или домой на выходные отпускал… Когда отсидел в дурдоме безвылазно несколько месяцев, так домой хоть на пару дней хочется, что сидишь, дрожишь: отпустят или недоусердствовал в отмывке унитаза, баллами не вышел?.. Слава Богу, пришла новая заведующая, уборщиц наняла…
Конец
Нет, не в «буйном». В гериатрии, в старческом – там страшнее. Туда умирать свозят. Кто из старичков из ума выживший, тому полегче, а когда всё понимаешь… Долгое время старик у нас в садике сидел почти весь день, если погода разрешала. Древний старик, не ходил совсем. Сидел в старой женской кофте, взгляд у него был такой всепонимающий. И в этом взгляде – прощение. Он прощал всем и всё: санитарам – кофту, миру – одиночество и никому на хрен ненужность.
Мечта
Обещали ведь: буду хорошо работать, заплатят сто пятьдесят в следующем месяце. А я добротно работаю, стараюсь…
Если бы надбавили полтинничек!..
Каждое утро, кроме пятницы и субботы, Михаил Ш. встаёт, чистит зубы, завтракает и отправляется на работу. Сначала пешком, проходными дворами, с полчаса до остановки, а потом ещё минут пятнадцать на автобусе. Всё обычно, казалось бы. И сам Михаил, на первый взгляд, вполне обычный, даже импозантный мужчина: слегка за сорок, со вкусом одет. Умён, начитан, отличный собеседник. Обычный, да вот только одно «но»: Миша болен. Тяжело и, скорей всего, навсегда. Шизофренией. Вся жизнь наперекосяк: ни семьи, ни детей, ни профессии. Болезнь впервые проявилась в юности, и с тех пор, до приезда в Израиль, Миша почти всё время кочевал по больницам. В России домой редко отпускали. Здесь же, у нас, лекарства понадёжней – крепко держат «в седле». Болезнь отступила, дала передых. Уже полгода, как не попадал в больницу. Но… Он вернётся туда. Как медик понимаю это лучше других.
А пока мы едем в сумасшедший дом. Он – на работу. Я – на экскурсию… Сейчас Миша здесь не лечится, а работает. Место называется «Отделение трудотерапии при Беэр-Шевском центре душевного здоровья»… Миша работает реабилитируемым.
…Эту систему придумали, как и всё у нас, в Америке, правда, не от хорошей жизни. Раньше душевнобольных пожизненно содержали в больницах. С годами стационар дорожал, и власти, дабы сэкономить, затеяли реформу. Всех сколь-либо способных обслужить себя больных, согласно нововведениям, следовало выписать на волю. Но нетрудно представить: человек, ничего, кроме сумасшедшего дома, не видавший, никак не приспособлен к вольной жизни. Поэтому к свободе его решили приучать постепенно, через ту же трудотерапию.
В Америке реформа провалилась. С треском. Выписанные больные в большинстве своём на воле не прижились и нынче бомжуют по городам и весям самой свободной страны.
Израильтяне же усердно адаптируют неудачный опыт старшего брата. И выписывают всех, кого можно, и трудом врачуют.
…Хорошо в сумасшедшем доме. Тихо, уютно, прибрано. Палисадники в цвету вдоль мощёных аллей. Невысокие корпуса отделений чем-то похожи на саркофаг четвёртого реактора ЧАЭС. Правда, весёленькие, светло-бежевые. Кругом разгуливают шизофреники: приветливые и агрессивные, весёлые и безразличные.
Посередине – площадь с фонтаном. Фонтан, вопреки надеждам депрессивных, неглубокий. Рядом с ним – кафе, магазины для прихожан-посетителей… Одна беда: мочой повсюду несёт, и чем ближе к стене, тем сильней…
…Он (Михаил Ш.) вернётся cюда скоро, может, навсегда. То, о чём он сегодня расскажет, станет его повседневностью. Верить или нет, каждый решит сам для себя… Чем тут поможешь. Но тогда хоть выслушаешь сумасшедшего человека. Пока можно.
Работа
Работа, как любая другая, пять раз в неделю, с восьми до двенадцати. Собираем, клеим, шьём, пакуем. Жаль только, что платят мало…
Мало – это сто шекелей. В месяц. За ежедневную работу.
Что за работа? В разных комнатах по-разному. В основном пакуем. Укладываем одноразовые ложки.
Другие собирают наборы для «Эль-Аля», пакетик: вилка, ножик, соль, перец. Да ты видел их тысячу раз в самолётах. Пакетик, он изначально – склеенный, и разлепить его, чтоб наполнить, адский труд.
Есть комната, где к шахматным фигуркам бархатные лоскутки приклеивают. Казалось бы: что за работа! А знать нужно, к какой фигуре – какой лоскуток. Да и платят «шахматистам» по пятьдесят шекелей в месяц…
А я сейчас в лучшем нашем, элитном, отделении. Мозаикой занимаюсь. Есть у нас и художники, и чеканщики. Работа куда интересней, так вот, видишь, стольник заплатили. На этих постылых мне ложках я имел сто с полтиной…
Наказания
В одном отделе можно и припоздниться, и не вкалывать особенно, и – ничего, пройдёт. А в других опоздал на несколько минут, десять шекелей из зарплаты – вон. Не побрился, ещё десять шекелей минус, не принял душ, опять отымут десятку. Принюхиваются. А ты представить себе не можешь: когда плохо, когда задавлен этими лекарствами, помыться-побриться – это тяжкий труд. Я себе бороду отрастил, чтоб не бриться, сил нет… Вставать каждый день в семь утра – тоже пытка. А бросить жалко, да и врачи говорят: режим, полезно… Если б вообще ничего не платили, бросил бы, конечно. Живу на сущие гроши, каждый шекель на учёте. С этой сотней я хоть что-то могу себе позволить…
Устроиться бы в другое место, где платят тот же минимум, да куда?! Кому мы нужны… Живём, кто как может. Один, бывший адвокат, печёт дома оладьи и продаёт их здесь по пять шекелей штука. Кто-то купит пачку сигарет и потом торгует в розницу, по шекелю каждая. Ещё купят бутылку колы, продают на разлив…
Но всё равно лучше так, чем опять в больницу.
Милосердие
Чего мочой-то несёт, нас несколько раз на день выгоняют из палат на прогулки, два-три часа каждая. И если тебе приспичило — твои проблемы. В туалет не пустят. Ведь медбрат в таком случае тебя должен сопроводить. А он отказывается: мол, перетерпите. Терпеть – не терпит никто, где стоят, там и… И спят там же, между говна. Какие прогулки в жару, с лекарств! Еле на ногах держишься…
Душевные у нас медбратья. Подходит ко мне как-то один такой душевный перед сном. Наш, «русский». Говорит: «Сейчас я сделаю тебе укол. Ты от него ночью обо…ся. Но учти: я тебя мыть не буду». Так и было. После сопрел весь, долго маялся…
В «буйных»…
Голодно в «буйных». Если привозят еду (курицу, например), её сначала персонал разбирает. Остатки «выбрасывают» больным. На всех не хватает. Кто посильней, подходит к слабым, отбирает. Если тот сопротивляется, бьют. Здесь же, на месте. И потом тоже изобьют. Для профилактики.
А эти… персонал. Стоят, смотрят… Они в наши дела не вмешиваются. Хотя когда как. Однажды я в «открытом» лежал, к нам сбежал какой-то дедок из «буйного». Увидал телегу с едой, подскочил, начал всё подряд надкусывать… Весь обед нам перепортил. А дедок хиленький. Я взял его аккуратно под руки, пытаюсь оттащить от еды; не даётся! Сёстры увидали, позвали санитаров. Меня же и скрутили, дали аминазин…
…Что – еды! Элементарного – подушек в «буйном» вечно не хватает. Жуткие драки из-за подушек, воруют их друг у друга. А не дай Бог, у пахана подушку стащить – всё, незачем тебе подушка после этого…
Бывалых у нас достаточно… Особенно в «буйных». Это – зона. Только вместо ВОХРа – санитары, аминазин вместо карцера.
Любовь
В «буйных» отделениях мужики и бабы в одной палате лежат. Секс – много его, обычно в туалет за этим идут, но иногда тут же, в палате, при всех. Одной бабёнке курить захотелось. Сосед её по палате рядом с нею дымил. Говорит ему: «Хоть чинарик оставь, а?» «Отстрочи, милая, – отвечает, – тогда оставлю». И что? Отстрочила ничтоже сумнящеся. И докурила потом – заработала. Минет за окурок да ещё и при всех – дело у нас обычное. Другие бабы, кто покультурней, делают это в клозетах и по двадцатнику за раз берут. Не всё, конечно…
Наши бабы, много наших…
…Сходятся у нас иногда. Не семья, но всё равно – не один. Была пара: оба «глуховые» (деградированные), жить им было негде, лежали в больнице много лет. А потом их выгнали. На улицу.
Лечение
Я только поступил в «открытое». Так на душе было тошно, не мог уже – поговорить нужно было. Срочно. А смена – ночная; иду к сёстрам, прошу: доктора позовите, плохо мне. А мы по таким пустякам врачей не беспокоим, отвечают. Я не то чтоб разбушевался, прикрикнул. Прибежала врач. Выслушивать меня и не собиралась, наоборот, наорала и говорит: выбирай себе наказание (за то, что крикнул); или привяжем тебя, или укол. Я выбрал укол. Мамочка родная! Что со мной после укола этого сделалось… Я был, как сомнамбула. Где находишься, не понимаешь. Сознание включается лишь на несколько секунд, а потом пропадает. Пытался до туалета дойти… Всю ночь блуждал; куда только не попадал: и в женское отделение, и в другие корпуса. Потом мои вещи по всей больнице находили. А до туалета я так и не дошёл… И не помню почти ничего.
Труд
Перед выпиской перевели меня в лёгкое оздоровительное отделение. Там ещё старый заведующий был. Так у него (то ли метода такая, то ли на уборщицах экономил) уборкой корпуса занимались только больные. Вторник и пятницу драили палаты и туалеты, раз в месяц – весь коридор. В столовой посуду мыли, столы протирали. Заведующий ходил за нами, проверял, хорошо моем или нет. Баллы ставил, потом подсчитывал. Каждую пятницу устраивал общие собрания в столовой, оглашал результаты «соцсоревнования». Тому, кто хорошо драил, приз – шоколадка или домой на выходные отпускал… Когда отсидел в дурдоме безвылазно несколько месяцев, так домой хоть на пару дней хочется, что сидишь, дрожишь: отпустят или недоусердствовал в отмывке унитаза, баллами не вышел?.. Слава Богу, пришла новая заведующая, уборщиц наняла…
Конец
Нет, не в «буйном». В гериатрии, в старческом – там страшнее. Туда умирать свозят. Кто из старичков из ума выживший, тому полегче, а когда всё понимаешь… Долгое время старик у нас в садике сидел почти весь день, если погода разрешала. Древний старик, не ходил совсем. Сидел в старой женской кофте, взгляд у него был такой всепонимающий. И в этом взгляде – прощение. Он прощал всем и всё: санитарам – кофту, миру – одиночество и никому на хрен ненужность.
Мечта
Обещали ведь: буду хорошо работать, заплатят сто пятьдесят в следующем месяце. А я добротно работаю, стараюсь…
Если бы надбавили полтинничек!..

Андрей ЛАРИОНОВ
Родился в Кемерово в 1984 г. Любовь к книгам определила призвание, а позже – талант к литературе. Это стало постоянной потребностью, так как это давало возможность самовыражения чувств. Еще в детстве потерял слух, однако, со временем частично восстановился, что позволило адаптироваться к жизни. Это не помешало писать книги, так же, как Бетховену писать музыку, не имея слуха. Первые рассказы были написаны, когда Андрею было шестнадцать лет. Так на свет появились в 1999 году рассказы «Танец двоих», «Древнее чувство», «Музыка синих звезд», «Полет бабочки» и некоторые другие, которые позднее были дополнены и отредактированы до результативного читабельного стандарта. После выпуска из ВУЗа был написан роман «Сибирская сага: Эдем», а затем, позднее – еще один роман «Уровни». Жанры литературного творчества: фантастика, реализм, утопия, антиутопия, сюрреализм, записки, очерки, дневники.
Родился в Кемерово в 1984 г. Любовь к книгам определила призвание, а позже – талант к литературе. Это стало постоянной потребностью, так как это давало возможность самовыражения чувств. Еще в детстве потерял слух, однако, со временем частично восстановился, что позволило адаптироваться к жизни. Это не помешало писать книги, так же, как Бетховену писать музыку, не имея слуха. Первые рассказы были написаны, когда Андрею было шестнадцать лет. Так на свет появились в 1999 году рассказы «Танец двоих», «Древнее чувство», «Музыка синих звезд», «Полет бабочки» и некоторые другие, которые позднее были дополнены и отредактированы до результативного читабельного стандарта. После выпуска из ВУЗа был написан роман «Сибирская сага: Эдем», а затем, позднее – еще один роман «Уровни». Жанры литературного творчества: фантастика, реализм, утопия, антиутопия, сюрреализм, записки, очерки, дневники.
РЕКА ЖИЗНИ
Все, уже пора покидать этот берег. Проводник зовет его к лодке. А Оскар смотрит в черное звездное небо, видит, как переливаются далекие огни других миров. Что-то очень важное постоянно ускользало из его воспоминаний. Да, он совсем не помнит, как здесь оказался.
– Нам пора, – повторяет лодочник. Темный капюшон скрывает его лицо.
– Да, я сейчас, – с большой неохотой отвечает Оскар.
Лодка покачивалась уже на воде близ берега, ожидала еще одного путешественника.
– Где монетка? – стальным голосом говорит ему проводник.
– Какая монетка? Зачем? – ничего не понимая, спрашивает Оскар.
Тут он ощущает, что все это время что-то сжимал в руке. Разжимает пальцы, там – две мелкие монетки.
– Вот так-то лучше, – сухо отвечает лодочник, забирая плату за проезд.
Мужчина идет к лодке за проводником, холодная темная вода просачивается в его обувь. Штаны намокают. Еще пара минут, и он – в лодке. Проводник берет весло в руки, начинает грести. Левый берег реки начинает медленно отдаляться, погружается в какой-то странный синеватый туман.
Холодный ночной воздух неподвижен. Ветра нет, тихо. Только плеск воды и сиплое дыхание проводника. Он тяжело дышит, упорно молчит.
– Куда же мы плывем? – стараясь рассмотреть в темноте противоположный берег реки, спросил мужчина.
– Я тебя переправляю на другой берег, там у тебя будет новая жизнь, – мрачновато, без выражения ответил лодочник.
– А что, у меня на этом берегу была другая жизнь? – опять спрашивает Оскар недружелюбного собеседника.
– Ты совсем ничего не помнишь? – слегка удивился человек в капюшоне.
– Ничего, – напрягая свою память, произнес Оскар.
– Это довольно редкий случай! Буду краток. Ты раньше жил в другом мире, затем умер. Сейчас я должен переправить на другой берег, где ты начнешь новую жизнь в новом мире.
Оскар какое-то время молчал, не мог собраться мыслями. Что-то очень далекое и чуждое промелькнуло перед его глазами. Неужели это была его земная жизнь?! Затем он вдруг ощутил прикосновение какого-то тепла – здесь, посередине реки, в холодном и плотном тумане. Мозг воспроизвел короткий участок его прошлой жизни: яркое, теплое солнце, которое он ощущал всем своим существом.
– Как это река называется? – вдруг спросил Оскар, глядя на темную ледяную воду, плескавшуюся за бортами лодки.
– Это река жизни, – его проводник повернулся к нему лицом, капюшон сполз. На небритом, изнеможденном лице со впалыми глазами была видна ухмылка. Его беззубый рот улыбался.
Холодный воздух словно застрял в горле у Оскара.
«Река жизни?» – вопрос повис в голове.
Обрывки воспоминаний складываются в единую мозаику. Постепенно все встает на свои места, он понимает, где сейчас находится. Оскар уже помнит лица родных. Он помнит свой дом. Последнее воспоминание – это яркий больничный свет, склоненные над ним лица врачей. А потом – темнота.
– Можно ли вернуться назад? – робко спрашивает у лодочника Оскар.
– Нет. Слишком поздно, мы пересекли середину реки, – хрипло отвечает ему проводник.
– То есть как нельзя! Всегда можно все вернуть! – в сердцах кричит мужчина.
– Нет! – гробовым голосом отвечает лодочник.
Злость вдруг подступает к Оскару. Мужчина вспоминает своих близких людей, они действительно хотели бы, чтобы он вернулся назад. И он должен это сделать.
– Я сказал, поворачивай! – с угрозой кричит Оскар лодочнику.
– Нельзя, – равнодушно отвечает тот, продолжает усиленно грести к другому берегу. Плотный туман повсюду: окружил лодку, дышит на двух людей влажным холодом.
– Назад, я сказал! Назад! – уже готовый применить силу против этого тщедушного лодочника, кричит мужчина.
– Нет.
С силой Оскар толкает лодочника к носу лодки. Начиналась непродолжительная борьба.
– Где весла?! – кричит Оскар.
– За бортом, в реке, – обессиленный от борьбы, кричит лодочник. Проводник выронил их во время борьбы.
– Я не собираюсь умирать! Понял ты меня?! Там меня ждут! Тебе все равно, а меня ждут там… – мужчина кричит ему в лицо.
Лодка произвольно течет по течению реки, рассекает носом туман, темную воду, плывет в неизвестность.
– Что ты наделал, сейчас мы не сможем причалить к берегу, – огрызается в ответ лодочник.
Звездное небо движется над их головами, смотрит на пространство между двух миров. Оскар смотрит туда, вверх. Слезы на его глазах. На душе – холод, отчаяние. Сглатывая холодный речной воздух, он вдруг понимает, что действительно не может ничего изменить. То, что с ним произошло, неподвластно его воле, чувствам, желаниям, мыслям. Остается только ждать, когда попадет в другой мир, где он совершенно никому не нужен, где будет чужим среди всех. И вообще, он не имеет ни малейшего представления о том мире.
– Ты в порядке? – спрашивает его вдруг неожиданно лодочник.
– Нет, не в порядке! – резко отвечает ему Оскар.
Потом – опять молчание. Слышно, как спокойная река негромко шумит, уносит их куда-то в неизвестность.
— Ты думаешь, что в том мире ты будешь одинок? Ты думаешь, что только в прошлой жизни тебя ждут родные, близкие? Там, куда мы направлялись, тебя тоже ждали, надеялись, что ты переплывешь эту реку, – прошептал лодочник.
– Я не понимаю… – Оскар схватился руками за голову, стараясь вспомнить что-то еще, чего он не помнил раньше.
Новые воспоминания того, другого мира вдруг полезли сами к нему в голову. И опять лица родных людей, только уже из другого мира, перед его глазами.
– Боже мой, что же это?! – в изумлении он смотрит на темное небо.
Лодка мягко ткнулась носом в берег. Черные очертания берега едва различимы в сильном тумане.
– Иди, тебе пора. Тебя ждут… – говорит ему лодочник.
– Да, да уже иду, – устало ответил Оскар.
Очень скоро мужчина скрылся в густом тумане, растворился в темноте. Оскар шел вперед, уже не колебался: он знал, что в этом мире его тоже ждут и любят. И придет когда-нибудь время, и на этот берег к нему приплывут все те, кого он любил в прошлой жизни, и они будут жить одной большой семьей…
СВИНЦОВЫЙ НОЯБРЬ
Ноябрь был довольно теплым, хотя небо почти всегда было свинцовым и низким. Солнца в нем Андрей не видел почти никогда. В то время как вся Россия уже лежала в снегах, тут было сухо и по-осеннему тоскливо. Хотя отсутствие снега мальчишку радовало. Андрею надоели зима и холода. Его молитвы сбылись, и он был очень рад этому. Гуляя под южным небом, Андрей верил уже, что добиться можно хоть чего угодно, нужно лишь верить и упорно стремиться к этому.
На день рождения Андрея, на десятое декабря, впервые выпал снег. Этому предшествовала очередная молитва мальчика: «Я благодарю Тебя, Боже мой, что я уже живу на юге! И сегодня, в свой день рождения, я прошу снега с неба, чтобы в мой день рождения повалили хлопья пушистые и белые. Еще прошу, чтобы в гости к нам пришли девочки Катя и Таня. Возможно, одна из них будет моей невестой. Я верю Тебе и благодарю Тебя, Отец мой, за то, что Ты меня слышишь и отвечаешь мне на мои молитвы. Да пребудет Твоя Слава во веки веков! Аминь!»
Андрей уже знал по прошлым молитвам, что сегодня действительно выпадет снег, как он и попросил. Первые пушистые хлопья начали сыпаться с пасмурной небесной плоскости, что разверзлась над этим южным краем, во второй половине дня. Мама решила пригласить соседских девочек в гости. В итоге на день рождения Андрея к нему пришли соседские девчонки – Катя и Таня. Электричество отключили, потому они все сидели при свечах. Наверное, это было романтично. Там, за окном падал беззвучный воздушный и волшебный снег, а они сидели впятером в маленьком саманном доме. Отца не было, он чистил дорожки от снега, а затем заготавливал дрова для печи. Потому тут были только мама, брат Андрея и две красивые юные соседки. Все они общались какое-то время, разговаривали на разные темы.
– Андрей – уже парень, – говорила Катя, глядя на Андрея с легкой улыбкой.
Мама отрицала это:
– Нет, он еще мальчик. Парнем он будет, когда станет старше…
– Для меня он – парень, – все так же настойчиво говорила брюнетка с курносым носиком и милой улыбкой.
КУБАНСКАЯ ЗИМА
Зима была на редкость холодной там, это как со слов местных Андрей понял об этом. Тут не было морозов, как в Сибири, но зато тут были сильные ветра и сырость, что висела даже, когда снег выпал. Родители Андрея долго не могли прописаться, так как регион был закрыт для новых приезжих. Андрей отлично помнил тот момент, как они довольно часто ездили в уездный городок, что располагался рядом с нашей станицей. На электричке всей семьей они сначала доезжали до вокзала. Серые дни, сезон – не то осень, не то зима по ощущениям. Там они ходили по разным делам. В отделе паспортного стола родителей Андрея не хотели прописывать. Отцу Андрея пришлось заплатить взятку чиновнику, чтобы дом, наконец, стал по-настоящему их домом. Деньги были на исходе. Сбережения таяли. Все, что оставалось, хранилось наличкой в большой сумке.
Часто они сидели на вокзале городка и пили кофе, закусывая какими-нибудь дешевыми вкусностями, что продавались в местной закусочной. Приятная радость среди общей неспокойной ситуации. А вообще, тут много было другого, чего Андрей никогда не увидел бы у себя на родине. Тут частенько ходили казаки в одеждах, характерных для старинных времен. Также тут больше, чем обычно, южан. Армяне, азербайджанцы, грузины, а также выходцы с северного Кавказа – все они тут были в большом количестве, хотя русских даже тут было большинство все же. Южане чаще выступали в качестве работодателей, а русским приходилось на них работать.
В один из зимних дней стало настолько холодно, что вода замерзла даже в колонках, что подавала подземную воду. Не помогали многочисленные отогревы ее огнем. Потому все мы собирались, чтобы идти на водонапорную башню. Она возвышалась исполином над снежными просторами, а вверху завывал неистовый, холодный ветер.
Отец придерживал флягу для воды, а Андрей катил саночки к той далекой башне, где они должны были добыть воду. Там с высоты хлестала вода. Оттуда отец с сыном и наливали ее до тех времен, пока аномально холодные морозы спали с южного края.
Тетя Роза говорила иногда полушутя: «Такой зимы холодной не было ни разу тут. Наверное, это вы, северные ребята, ее с собой привезли сюда».
Андрей улыбался в ответ, но молчал про молитвы искусственного вызова снега.
РАБОТА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Потеплело в середине февраля. Свинцовые тучи отступили, и в высоком синем небе начало светить солнце. Это было похоже на весну конца апреля или даже начала мая в Сибири. Такая ранняя весна меня приятно удивила.
В этот же период Андрей с отцом начали выкапывать яму для погреба. Земля тут была глинистая. Уровень глины был значительно выше, чем в Сибири, потому пришлось попотеть, чтобы вырыть большое подземное хранилище для будущего погреба. Затем они возвели деревянное строение, что должно было возвышаться над погребом. Когда пришли жаркие дни, Андрей с братом прятались иногда там. Там же сидели на щербатых стенах погреба комары, которые начинали у нас пить кровь.
Вечерами мальчишки гуляли с ребятами с улицы. Под золотистыми лучами солнца они находили себе развлечения. Играли в города, догонялки, прятки, имитировали семейные отношения взрослых людей.
Сумеречными теплыми вечерами Андрей с братом с упоением увлекались еще одним из любимых занятий – хождением на ходулях. Словно сказочные великаны, наши силуэты вычерчивались темными фигурками на фоне вечернего южного кубанского неба. С трудом взбирались братья на эти деревянные конструкции, чтобы потом долго поднимать горячую пыль на дорогах, видеть мир с высоты.
Тетя Роза говорила северным братьям, чтобы оставили это занятие: «Не ходите на ходулях, лучше займитесь чем-нибудь другим, поиграйте в догонялки. Иначе…» На этом слове старая женщина замолкала, видимо, что-то вспоминала из прошлых лет. Мальчишки тоже молчали, смотрели на нее внимательно, пытаясь узнать заранее смысл недосказанных слов.
– Иначе, что? – спрашивал Илья, что играл с братьями.
– Иначе случится война. Примета такая: когда мальчишки начинают играть в войну и ходить на ходулях, потом начинается война, и солдаты ходят на костылях.
Все тут же убеждались в необъективности и суеверности старой женщины. Андрей со своим младшим братом бежали дальше, кто на своих ногах, кто на ходулях совершал «семимильные» шаги. Южное небо дышало теплом и счастьем, и война не вписывалась в эту идиллию детского мира. Груши, тутовые, ореховые деревья выделялись темными контурами на фоне градиентной заливки неба. Солнце, скрывшись за горизонтом, почему-то не могло долго сохранять светлый небосвод, звезды прорезали темноту ярким светом.
НОВАЯ ВЕСНА И ЛЕТО
Новая весна пришла рано на Кавказ. Все сразу ожило вокруг саманного домика. В глубине двора стояло дерево жизни, что теперь не тянулось голыми белыми могучими ветвями в небо. Оно покрылось листьями.
В огороде появились удивительные существа – медведки, которые, как кроты, рыли норы в земле. Андрей с братом ловил их пару раз, изучали. Тут же каждый вечер сверчали сверчки, но только во много раз сильнее, чем там, на севере, в Сибири. Мальчишки ловили и их, эти насекомые были просто огромными по размерам.
Во мгле при свете фонарей мелькали часто летучие мыши, которые порхали, как птицы. Андрей пытался поймать и их, но эти летуны были шустрее его. Зато ему удавалось ловить обычных мышат, которые лакомились кукурузой в амбаре. Для этих целей Андрей садился в угол у мышиной норки. Когда оттуда выползала мышка, мальчишка накрывал ее молниеносно банкой. Затем отдавал брату, и они какое-то время содержали мышонка, как домашнее животное, кормя кукурузой и водой.
С приходом жары и лета на картошку, что произрастала в огороде, налетали целые полчища колорадских жуков. Эти вредители убивали картошку очень быстро, оставляя от их кустов лишь сосудистые зеленые прожилки. Вся прочая растительность была съедена этими жуками и гусеничнообразными предшественниками колорадов.
Отец какое-то время работал на армянина, но тот был чрезвычайно скуп и плохо обращался с ним, потому отец принял решение вернуться в Сибирь и попросить помощи от родственников. Мама Андрея же оставалась с детьми одна тут. Она начала работать на плантаторов, которые опять же приехали сами из-за гор. Буквально за три дня изнуренной работы мать Андрея потеряла более десяти-пятнадцати килограммов собственного веса, так как условия труда были просто ужасными. На четвертый день у матери уже поднялась температура, и она уже не смогла работать. Лежала дома, принеся с собой лишь те гроши, которые смогла заработать на арбузных и кукурузных полях плантаторов.
Андрей уже тогда испытал первую неприязнь к этим представителям Закавказья. Они были очень наглые и бесцеремонные. Они посягали на чужое, что им не принадлежало. Это было тоже плохо с точки зрения Андрея. И последнее: они были очень кровожадны. Об этом свидетельствовала та война, которая разгоралась под боком от станицы Андрея. Фраза «Я зарэжу тебя» тоже стала определенной ассоциацией для мальчика в отношении этих народов.
Все, уже пора покидать этот берег. Проводник зовет его к лодке. А Оскар смотрит в черное звездное небо, видит, как переливаются далекие огни других миров. Что-то очень важное постоянно ускользало из его воспоминаний. Да, он совсем не помнит, как здесь оказался.
– Нам пора, – повторяет лодочник. Темный капюшон скрывает его лицо.
– Да, я сейчас, – с большой неохотой отвечает Оскар.
Лодка покачивалась уже на воде близ берега, ожидала еще одного путешественника.
– Где монетка? – стальным голосом говорит ему проводник.
– Какая монетка? Зачем? – ничего не понимая, спрашивает Оскар.
Тут он ощущает, что все это время что-то сжимал в руке. Разжимает пальцы, там – две мелкие монетки.
– Вот так-то лучше, – сухо отвечает лодочник, забирая плату за проезд.
Мужчина идет к лодке за проводником, холодная темная вода просачивается в его обувь. Штаны намокают. Еще пара минут, и он – в лодке. Проводник берет весло в руки, начинает грести. Левый берег реки начинает медленно отдаляться, погружается в какой-то странный синеватый туман.
Холодный ночной воздух неподвижен. Ветра нет, тихо. Только плеск воды и сиплое дыхание проводника. Он тяжело дышит, упорно молчит.
– Куда же мы плывем? – стараясь рассмотреть в темноте противоположный берег реки, спросил мужчина.
– Я тебя переправляю на другой берег, там у тебя будет новая жизнь, – мрачновато, без выражения ответил лодочник.
– А что, у меня на этом берегу была другая жизнь? – опять спрашивает Оскар недружелюбного собеседника.
– Ты совсем ничего не помнишь? – слегка удивился человек в капюшоне.
– Ничего, – напрягая свою память, произнес Оскар.
– Это довольно редкий случай! Буду краток. Ты раньше жил в другом мире, затем умер. Сейчас я должен переправить на другой берег, где ты начнешь новую жизнь в новом мире.
Оскар какое-то время молчал, не мог собраться мыслями. Что-то очень далекое и чуждое промелькнуло перед его глазами. Неужели это была его земная жизнь?! Затем он вдруг ощутил прикосновение какого-то тепла – здесь, посередине реки, в холодном и плотном тумане. Мозг воспроизвел короткий участок его прошлой жизни: яркое, теплое солнце, которое он ощущал всем своим существом.
– Как это река называется? – вдруг спросил Оскар, глядя на темную ледяную воду, плескавшуюся за бортами лодки.
– Это река жизни, – его проводник повернулся к нему лицом, капюшон сполз. На небритом, изнеможденном лице со впалыми глазами была видна ухмылка. Его беззубый рот улыбался.
Холодный воздух словно застрял в горле у Оскара.
«Река жизни?» – вопрос повис в голове.
Обрывки воспоминаний складываются в единую мозаику. Постепенно все встает на свои места, он понимает, где сейчас находится. Оскар уже помнит лица родных. Он помнит свой дом. Последнее воспоминание – это яркий больничный свет, склоненные над ним лица врачей. А потом – темнота.
– Можно ли вернуться назад? – робко спрашивает у лодочника Оскар.
– Нет. Слишком поздно, мы пересекли середину реки, – хрипло отвечает ему проводник.
– То есть как нельзя! Всегда можно все вернуть! – в сердцах кричит мужчина.
– Нет! – гробовым голосом отвечает лодочник.
Злость вдруг подступает к Оскару. Мужчина вспоминает своих близких людей, они действительно хотели бы, чтобы он вернулся назад. И он должен это сделать.
– Я сказал, поворачивай! – с угрозой кричит Оскар лодочнику.
– Нельзя, – равнодушно отвечает тот, продолжает усиленно грести к другому берегу. Плотный туман повсюду: окружил лодку, дышит на двух людей влажным холодом.
– Назад, я сказал! Назад! – уже готовый применить силу против этого тщедушного лодочника, кричит мужчина.
– Нет.
С силой Оскар толкает лодочника к носу лодки. Начиналась непродолжительная борьба.
– Где весла?! – кричит Оскар.
– За бортом, в реке, – обессиленный от борьбы, кричит лодочник. Проводник выронил их во время борьбы.
– Я не собираюсь умирать! Понял ты меня?! Там меня ждут! Тебе все равно, а меня ждут там… – мужчина кричит ему в лицо.
Лодка произвольно течет по течению реки, рассекает носом туман, темную воду, плывет в неизвестность.
– Что ты наделал, сейчас мы не сможем причалить к берегу, – огрызается в ответ лодочник.
Звездное небо движется над их головами, смотрит на пространство между двух миров. Оскар смотрит туда, вверх. Слезы на его глазах. На душе – холод, отчаяние. Сглатывая холодный речной воздух, он вдруг понимает, что действительно не может ничего изменить. То, что с ним произошло, неподвластно его воле, чувствам, желаниям, мыслям. Остается только ждать, когда попадет в другой мир, где он совершенно никому не нужен, где будет чужим среди всех. И вообще, он не имеет ни малейшего представления о том мире.
– Ты в порядке? – спрашивает его вдруг неожиданно лодочник.
– Нет, не в порядке! – резко отвечает ему Оскар.
Потом – опять молчание. Слышно, как спокойная река негромко шумит, уносит их куда-то в неизвестность.
— Ты думаешь, что в том мире ты будешь одинок? Ты думаешь, что только в прошлой жизни тебя ждут родные, близкие? Там, куда мы направлялись, тебя тоже ждали, надеялись, что ты переплывешь эту реку, – прошептал лодочник.
– Я не понимаю… – Оскар схватился руками за голову, стараясь вспомнить что-то еще, чего он не помнил раньше.
Новые воспоминания того, другого мира вдруг полезли сами к нему в голову. И опять лица родных людей, только уже из другого мира, перед его глазами.
– Боже мой, что же это?! – в изумлении он смотрит на темное небо.
Лодка мягко ткнулась носом в берег. Черные очертания берега едва различимы в сильном тумане.
– Иди, тебе пора. Тебя ждут… – говорит ему лодочник.
– Да, да уже иду, – устало ответил Оскар.
Очень скоро мужчина скрылся в густом тумане, растворился в темноте. Оскар шел вперед, уже не колебался: он знал, что в этом мире его тоже ждут и любят. И придет когда-нибудь время, и на этот берег к нему приплывут все те, кого он любил в прошлой жизни, и они будут жить одной большой семьей…
СВИНЦОВЫЙ НОЯБРЬ
Ноябрь был довольно теплым, хотя небо почти всегда было свинцовым и низким. Солнца в нем Андрей не видел почти никогда. В то время как вся Россия уже лежала в снегах, тут было сухо и по-осеннему тоскливо. Хотя отсутствие снега мальчишку радовало. Андрею надоели зима и холода. Его молитвы сбылись, и он был очень рад этому. Гуляя под южным небом, Андрей верил уже, что добиться можно хоть чего угодно, нужно лишь верить и упорно стремиться к этому.
На день рождения Андрея, на десятое декабря, впервые выпал снег. Этому предшествовала очередная молитва мальчика: «Я благодарю Тебя, Боже мой, что я уже живу на юге! И сегодня, в свой день рождения, я прошу снега с неба, чтобы в мой день рождения повалили хлопья пушистые и белые. Еще прошу, чтобы в гости к нам пришли девочки Катя и Таня. Возможно, одна из них будет моей невестой. Я верю Тебе и благодарю Тебя, Отец мой, за то, что Ты меня слышишь и отвечаешь мне на мои молитвы. Да пребудет Твоя Слава во веки веков! Аминь!»
Андрей уже знал по прошлым молитвам, что сегодня действительно выпадет снег, как он и попросил. Первые пушистые хлопья начали сыпаться с пасмурной небесной плоскости, что разверзлась над этим южным краем, во второй половине дня. Мама решила пригласить соседских девочек в гости. В итоге на день рождения Андрея к нему пришли соседские девчонки – Катя и Таня. Электричество отключили, потому они все сидели при свечах. Наверное, это было романтично. Там, за окном падал беззвучный воздушный и волшебный снег, а они сидели впятером в маленьком саманном доме. Отца не было, он чистил дорожки от снега, а затем заготавливал дрова для печи. Потому тут были только мама, брат Андрея и две красивые юные соседки. Все они общались какое-то время, разговаривали на разные темы.
– Андрей – уже парень, – говорила Катя, глядя на Андрея с легкой улыбкой.
Мама отрицала это:
– Нет, он еще мальчик. Парнем он будет, когда станет старше…
– Для меня он – парень, – все так же настойчиво говорила брюнетка с курносым носиком и милой улыбкой.
КУБАНСКАЯ ЗИМА
Зима была на редкость холодной там, это как со слов местных Андрей понял об этом. Тут не было морозов, как в Сибири, но зато тут были сильные ветра и сырость, что висела даже, когда снег выпал. Родители Андрея долго не могли прописаться, так как регион был закрыт для новых приезжих. Андрей отлично помнил тот момент, как они довольно часто ездили в уездный городок, что располагался рядом с нашей станицей. На электричке всей семьей они сначала доезжали до вокзала. Серые дни, сезон – не то осень, не то зима по ощущениям. Там они ходили по разным делам. В отделе паспортного стола родителей Андрея не хотели прописывать. Отцу Андрея пришлось заплатить взятку чиновнику, чтобы дом, наконец, стал по-настоящему их домом. Деньги были на исходе. Сбережения таяли. Все, что оставалось, хранилось наличкой в большой сумке.
Часто они сидели на вокзале городка и пили кофе, закусывая какими-нибудь дешевыми вкусностями, что продавались в местной закусочной. Приятная радость среди общей неспокойной ситуации. А вообще, тут много было другого, чего Андрей никогда не увидел бы у себя на родине. Тут частенько ходили казаки в одеждах, характерных для старинных времен. Также тут больше, чем обычно, южан. Армяне, азербайджанцы, грузины, а также выходцы с северного Кавказа – все они тут были в большом количестве, хотя русских даже тут было большинство все же. Южане чаще выступали в качестве работодателей, а русским приходилось на них работать.
В один из зимних дней стало настолько холодно, что вода замерзла даже в колонках, что подавала подземную воду. Не помогали многочисленные отогревы ее огнем. Потому все мы собирались, чтобы идти на водонапорную башню. Она возвышалась исполином над снежными просторами, а вверху завывал неистовый, холодный ветер.
Отец придерживал флягу для воды, а Андрей катил саночки к той далекой башне, где они должны были добыть воду. Там с высоты хлестала вода. Оттуда отец с сыном и наливали ее до тех времен, пока аномально холодные морозы спали с южного края.
Тетя Роза говорила иногда полушутя: «Такой зимы холодной не было ни разу тут. Наверное, это вы, северные ребята, ее с собой привезли сюда».
Андрей улыбался в ответ, но молчал про молитвы искусственного вызова снега.
РАБОТА И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
Потеплело в середине февраля. Свинцовые тучи отступили, и в высоком синем небе начало светить солнце. Это было похоже на весну конца апреля или даже начала мая в Сибири. Такая ранняя весна меня приятно удивила.
В этот же период Андрей с отцом начали выкапывать яму для погреба. Земля тут была глинистая. Уровень глины был значительно выше, чем в Сибири, потому пришлось попотеть, чтобы вырыть большое подземное хранилище для будущего погреба. Затем они возвели деревянное строение, что должно было возвышаться над погребом. Когда пришли жаркие дни, Андрей с братом прятались иногда там. Там же сидели на щербатых стенах погреба комары, которые начинали у нас пить кровь.
Вечерами мальчишки гуляли с ребятами с улицы. Под золотистыми лучами солнца они находили себе развлечения. Играли в города, догонялки, прятки, имитировали семейные отношения взрослых людей.
Сумеречными теплыми вечерами Андрей с братом с упоением увлекались еще одним из любимых занятий – хождением на ходулях. Словно сказочные великаны, наши силуэты вычерчивались темными фигурками на фоне вечернего южного кубанского неба. С трудом взбирались братья на эти деревянные конструкции, чтобы потом долго поднимать горячую пыль на дорогах, видеть мир с высоты.
Тетя Роза говорила северным братьям, чтобы оставили это занятие: «Не ходите на ходулях, лучше займитесь чем-нибудь другим, поиграйте в догонялки. Иначе…» На этом слове старая женщина замолкала, видимо, что-то вспоминала из прошлых лет. Мальчишки тоже молчали, смотрели на нее внимательно, пытаясь узнать заранее смысл недосказанных слов.
– Иначе, что? – спрашивал Илья, что играл с братьями.
– Иначе случится война. Примета такая: когда мальчишки начинают играть в войну и ходить на ходулях, потом начинается война, и солдаты ходят на костылях.
Все тут же убеждались в необъективности и суеверности старой женщины. Андрей со своим младшим братом бежали дальше, кто на своих ногах, кто на ходулях совершал «семимильные» шаги. Южное небо дышало теплом и счастьем, и война не вписывалась в эту идиллию детского мира. Груши, тутовые, ореховые деревья выделялись темными контурами на фоне градиентной заливки неба. Солнце, скрывшись за горизонтом, почему-то не могло долго сохранять светлый небосвод, звезды прорезали темноту ярким светом.
НОВАЯ ВЕСНА И ЛЕТО
Новая весна пришла рано на Кавказ. Все сразу ожило вокруг саманного домика. В глубине двора стояло дерево жизни, что теперь не тянулось голыми белыми могучими ветвями в небо. Оно покрылось листьями.
В огороде появились удивительные существа – медведки, которые, как кроты, рыли норы в земле. Андрей с братом ловил их пару раз, изучали. Тут же каждый вечер сверчали сверчки, но только во много раз сильнее, чем там, на севере, в Сибири. Мальчишки ловили и их, эти насекомые были просто огромными по размерам.
Во мгле при свете фонарей мелькали часто летучие мыши, которые порхали, как птицы. Андрей пытался поймать и их, но эти летуны были шустрее его. Зато ему удавалось ловить обычных мышат, которые лакомились кукурузой в амбаре. Для этих целей Андрей садился в угол у мышиной норки. Когда оттуда выползала мышка, мальчишка накрывал ее молниеносно банкой. Затем отдавал брату, и они какое-то время содержали мышонка, как домашнее животное, кормя кукурузой и водой.
С приходом жары и лета на картошку, что произрастала в огороде, налетали целые полчища колорадских жуков. Эти вредители убивали картошку очень быстро, оставляя от их кустов лишь сосудистые зеленые прожилки. Вся прочая растительность была съедена этими жуками и гусеничнообразными предшественниками колорадов.
Отец какое-то время работал на армянина, но тот был чрезвычайно скуп и плохо обращался с ним, потому отец принял решение вернуться в Сибирь и попросить помощи от родственников. Мама Андрея же оставалась с детьми одна тут. Она начала работать на плантаторов, которые опять же приехали сами из-за гор. Буквально за три дня изнуренной работы мать Андрея потеряла более десяти-пятнадцати килограммов собственного веса, так как условия труда были просто ужасными. На четвертый день у матери уже поднялась температура, и она уже не смогла работать. Лежала дома, принеся с собой лишь те гроши, которые смогла заработать на арбузных и кукурузных полях плантаторов.
Андрей уже тогда испытал первую неприязнь к этим представителям Закавказья. Они были очень наглые и бесцеремонные. Они посягали на чужое, что им не принадлежало. Это было тоже плохо с точки зрения Андрея. И последнее: они были очень кровожадны. Об этом свидетельствовала та война, которая разгоралась под боком от станицы Андрея. Фраза «Я зарэжу тебя» тоже стала определенной ассоциацией для мальчика в отношении этих народов.

Марина СВЕТЛИЧНАЯ
Родилась в Москве. Окончила филологический факультет Московского государственного университета по специальности литературоведение. Занимается бизнесом. Имеет свою компанию. Увлекается историей Античности и Древнего мира. Пишет и публикует на Интернет- площадках статьи по истории Древнего мира и древних городов. В 2023 году выступила как редактор и издатель дореволюционных книг по истории Античности. Начала писать художественные произведения в 2023 году. В различных изданиях вышли в свет рассказы «Бокалы для шампанского», «Аркады», «Французский поцелуй», «Капа», « Чекам те увек», « Все будет хорошо». Автор года 2023 по версии Союза русскоязычных писателей. Участник международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне (Frankfurter Buchmesse). Победитель литературного всероссийского конкурса « Хакасия – это моя земля».
Член Российского союза писателей (РСП) и Международного Союза русскоязычных писателей (МСРП). В мае 2024 года выпустила первую книгу «Замиг. Аркады». Издание продается во всех центральный книжных магазинах Москвы, в Санкт- Петербурге, а также на интернет-площадках. Готовится к изданию вторая книга автора.
Родилась в Москве. Окончила филологический факультет Московского государственного университета по специальности литературоведение. Занимается бизнесом. Имеет свою компанию. Увлекается историей Античности и Древнего мира. Пишет и публикует на Интернет- площадках статьи по истории Древнего мира и древних городов. В 2023 году выступила как редактор и издатель дореволюционных книг по истории Античности. Начала писать художественные произведения в 2023 году. В различных изданиях вышли в свет рассказы «Бокалы для шампанского», «Аркады», «Французский поцелуй», «Капа», « Чекам те увек», « Все будет хорошо». Автор года 2023 по версии Союза русскоязычных писателей. Участник международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне (Frankfurter Buchmesse). Победитель литературного всероссийского конкурса « Хакасия – это моя земля».
Член Российского союза писателей (РСП) и Международного Союза русскоязычных писателей (МСРП). В мае 2024 года выпустила первую книгу «Замиг. Аркады». Издание продается во всех центральный книжных магазинах Москвы, в Санкт- Петербурге, а также на интернет-площадках. Готовится к изданию вторая книга автора.
ДОМ (быль)
Если молния меня не убила –
то гром мне,
ей-богу, не страшен.
(В. Маяковский)
Маленькая старушка сидит на кровати, свесив ноги в домашних тапочках. На голове у нее – яркий новый платок, видно, «приоделась» к приходу гостей. Из-под платка на лбу с глубокими морщинами виднеется полоска седых волос, зачесанных в редкую серенькую косичку. Она похожа на маленькую мышку с чуть розоватым и будто мокрым кончиком носа. Старушка такая миниатюрная, что дети, еще даже не подростки, которые только вбежали в комнату и остановились у ее кровати, кажутся выше ее ростом. Детвора, приехавшая сегодня на семейный праздник, даже точно не помнит, как ее зовут. Они знают ее просто как няню, и даже не потому что она их воспитывала (ей ведь уже под девяносто), просто няня всю жизнь была частью их большой семьи, кажется, она жила с ними всегда. С виду добрая, с чуть простоватым выражением лица, пожилая женщина в этот момент настойчиво бьет своей палкой в паркет куда-то перед собой и как-то даже деловито и спокойно повторяет:
– Вон, глянь, опять полезли! Вон, еще пополз!
Она прицеливается и снова тыкает палкой в пол, будто пытаясь уничтожить кого-то, с кем в этот момент борется. Дети подходят ближе. Поведение старушки их забавляет:
– Кто, няня, кто ползет?!
–Да черви; вон, разве не видите?! – отвечает старая няня, продолжая свою охоту на кого-то неведомого.
Из соседней комнаты раздаются оживленные голоса: взрослые члены семьи празднуют чей-то день рождения. Тосты, смех, воспоминания; детям все это быстро наскучило. Они уже наелись и ждут, когда на столе появится коронное блюдо бабушки Ани – тянучка. Никто так не умеет варить ее, как она. Из обычной банки сгущенки получается волшебная карамель янтарного цвета, тягучая и невероятно вкусная. Гвоздь семейной программы!
С тех пор, как все разъехались из большого старинного дома по московским квартирам, встречаться стали редко, но каждый день рождения – повод заполнить чью-то маленькую квартирку шумной семейной компанией и достать с антресолей заветные домашние заготовки и припасы. Пока эти встречи продолжаются, они – одна семья и члены одного рода. Даже если их общего дома, семейного гнезда уже нет. Даже если вскоре один за другим они начнут уходить, и шумные праздники заменят застолья на поминках.
Старая няня Вера Петровна провела в этой семье больше семидесяти лет, разделив с ней всю ее долгую и непростую жизнь, хотя совсем и не была им родственницей. Когда-то она пришла в их дом худенькой низкорослой девочкой с большой русой косой и осталась здесь навсегда. У нее не было ни мужа, ни своих детей, лишь только их семья и их дом, одним из символов которого она стала.
– Знаешь, почему у меня так мало волос осталось? – как-то спросила у меня, еще дошкольницы, няня, расчесывая седые редкие пряди, заплетая их в тонкую косицу и затем прилаживая на голове черными шпильками в пучок. – Бабушка твоя выдрала. Никак не хотела засыпать! Лежала в кроватке, совсем маленькая была, болела и все драла и драла мои волосы…
Мое воображение с трудом рисовало бабушку Тасю, к тому времени уже пенсионерку, младенцем, дергающим нянины волосы, чтобы успокоиться и уснуть, чтобы прошло недомогание. Вот так няня жертвовала собой, и неудивительно, что для детей, которых воспитала, она стала, возможно, ближе матери…
Было это далеко от Москвы, там, где начиналась наша история, где зародились отношения, которые стали корнем и основанием большого семейного дерева – на берегу широкой Волги в небольшом городке под названием Юрьевец.
Юрьевец лишь немногим младше Москвы. Застроенный деревянными купеческими и мещанскими домами и белоснежными каменными храмами, город делился в ту пору на нижний (у самой воды) и верхний (на холмах).
Нижнего города сегодня уже нет. Он ушел под воду после строительства Горьковской ГЭС. Разлившаяся вода поглотила часть Юрьевца с домами, церквями и набережными, как фантастический гигантский кит. Высокая колокольня после затопления нижней части города какое-то время еще торчала из волжских глубин, напоминая о его гибели, санкционированной новым советским руководством.
Но верхний город стоит, и когда мне удалось где-то в семидесятые, еще в детстве, побывать там, первая старушка на лавочке, которую мои родители спросили про дом Лапшиных, сразу указала нам дорогу, хотя семьи Лапшиных к тому времени не было в Юрьевце уже больше сорока лет.
Мы подошли к большому деревянному зданию, с годами почерневшему, но крепко сложенному и все еще хорошо держащему форму. Дом этот когда-то был доходным, и мой прадед, Василий Никанорович, не просто жил в нем с женой и детьми на широкую ногу, но и сдавал здесь комнаты постояльцам. В тридцатые годы двадцатого века семья Лапшиных считалась в Юрьевце зажиточной и именитой.
А ведь еще лет за пятнадцать до этого Василий Лапшин был так беден, что когда он полюбил статную зеленоглазую девушку Анну с тёмно-русой косой и сделал предложение, ему отказали. Красавицу Анну выдали замуж за другого. Погоревав, Василий тоже женился. Все это в те времена означало окончательно и навсегда, особенно в крепких купеческих семьях. Василий и Анна тогда были слишком далеки от того, чтобы стать одной семьей.
И тут наступает черед то ли магии обстоятельств, то ли Божьего промысла.
Прошел год, и вот Анна пришла в храм к своему духовному отцу и на исповеди призналась:
– Год живу с мужем, батюшка, а все еще девственница я…
Первый муж Анны, придя незадолго до того с полей войны, как выяснилось, был теперь неспособен иметь семью и детей. И представьте, даже в те, совсем не свободные для женщин времена, когда жене можно было легко указать на ее место, это стало поводом для развода! Анну развели.
И тут неожиданно оказалось, что Василий тоже свободен. Первая жена его недавно умерла. Не позволил Бог разделить этих двоих! Видно, поняли это и родители девушки и дали наконец свое благословение на брак.
На старых фотографиях он – красивый широколобый брюнет с лихими усами. Она – статная, с большой темной косой, тонким носом и слегка строгими, слегка задумчивыми добрыми глазами.
Их портрет в резной черной раме всегда висел в семейном доме в гостиной над большим, задрапированным бело-зеленой тканью диваном с круглыми валиками по бокам, перед которым стоял длинный дубовый стол, свидетель веселых праздников, дружных застолий, но и больших семейных и личных трагедий.
– Какая красивая история! Это была настоящая любовь на всю жизнь, правда? – спрашивала я маму. Та, кажется, отдавала решение на мой собственный суд. Дед Василий, проживший с женой много десятилетий, воспитавший троих детей, не был человеком постоянным и верным. Как случается у многих, гулял. Много ли, мало – кто теперь расскажет? Но, говорили, был у него роман даже с маленькой няней Верой. А там уж и дальше. Под конец он вообще ушел из семьи. Вернулся, рассказывают, домой глубоким онкологическим больным… А бабушка Анна? Она не только приняла его, но и до самой смерти сама выхаживала! Столько было силы и терпения в этой женщине, а еще, наверное, настоящей любви. Но нам ли судить об их чувствах? Анна пережила Василия на много лет. Она стала мудрой главой большого семейства. От нее дочери и внучки с молоком впитали, что значит верная жена и мать, и как, несмотря ни на что, надо беречь свою семью и близких. Она умерла в тот год, когда я появилась на свет.
– Какой она была, прабабушка Анна Макарьевна? – спрашивала я отца.
– Добрая такая, – отвечал он, – очень вкусные пироги пекла.
– Сухая и абсолютно равнодушная к детям, – говорила моя тетка, названная в честь нее Анной.
Двадцатый век научил их выдержке и терпению, позволив выжить во всеобщей мясорубке, через которую они прошли (революция, НЭП, раскулачивание, война), и каким-то образом вырулить в этой сумасшедшей буре их корабль под названием «Семья». Трое детей, шестеро внуков, шестеро правнуков сохранили ощущение семьи и рода на долгие годы.
У Василия и Анны одна за другой родились в Юрьевце три дочери. Первая, конечно, Анна, в честь красавицы-матери. Вторая – моя бабушка Таисия, тоже красавица, но похожая больше на отца, третья – малышка со странно звучащим сегодня именем Павла.
По семейной легенде, каждый раз, когда крестные уносили очередного младенца на крещение в церковь, молодая мать просила: «Ниной назовите, пожалуйста! Пожалуйста, Ниной!» Но, видно, с мнением матерей в ту пору не слишком считались. Так и не появилось ни одной Нины в нашей богатой девочками семье.
В родном Юрьевце разросшаяся семья Лапшиных пережила революцию и гражданскую войну. Истерзанная страна вступила наконец в новую эру, которую молодое советское государство назвало Новой Экономической Политикой (НЭП). И вот здесь Василий Никанорович смог наконец проявить свою коммерческую жилку и очень поднялся. Семейный капитал стал быстро расти, и в тридцатые годы у Лапшиных уже было в городе два магазина, доходный дом, а по Волге ходила своя баржа с грузами. Казалось, жизнь семьи наконец наладилась. Дети росли, родители богатели. Старшая Анна уже заканчивала гимназию. Но трудности, выпавшие на их век, как видно, только начинались.
Советский режим, немного оправившись, стал затягивать петлю на шее тех, кто помог вытащить экономику страны из хаоса. Грянули сталинские репрессии.
Василий, очевидно, долго наблюдал, как сгущались тучи, как совершенно невинные люди только потому лишь, что у них было накоплено немного денег и собственности, теряли все и оказывались в тюрьмах и лагерях, а их дети заполняли детские приюты. Его не могла не волновать судьба близких. Природный купеческий ум и деловая хватка пригодились и здесь. Василий Никанорович действовал мудро и осторожно. Можно представить, как родители сначала обсуждали между собой тайный план побега в гостиной, за большим семейным столом, а потом осторожно начали вовлекать в него девочек. Вернее, двух старших сестер, младшая была еще совсем малышкой.
Первой уехала из родного дома старшая дочь Анна. Под каким уж предлогом? Она никогда не рассказывала... Девушка, которой тогда едва исполнилось семнадцать, должна была добраться до Москвы и выбрать для семьи новое место для жизни. Расчет был на то, что в огромном мегаполисе всегда можно найти работу и легко затеряться. Второй покинула Юрьевец моя бабушка, четырнадцатилетняя Таисия. Ей были вручены и спрятаны на ней или где-то в вещах все семейные драгоценности: мамины украшения и золотые дореволюционные монеты, хождение и хранение которых к тому времени было строжайше запрещено. Родители решили, что подростка никто не заподозрит. Но эта маленькая девочка, отправляясь в дальнюю дорогу в такое непростое время и с таким грузом, конечно, очень рисковала.
Оставшиеся члены семьи «снялись с якоря» неожиданно для окружающих.
– Я отдаю добровольно всю свою собственность, все, что мне принадлежит, советскому государству, – объявил Василий властям и, пока никто не успел опомнится, нырнул в неизвестность...
В Москве, а вернее, в небольшом тогда подмосковном городке-станции Кусково рядом со знаменитым дворцом графов Шереметьевых Лапшины купят новый дом, который станет их семейным гнездом на долгие годы, символом всей семьи и колыбелью для нового военного и послевоенного поколений.
Шел 1932 год. До Второй мировой оставалось еще почти десятилетие. За это время девочки вырастут и начнут самостоятельную жизнь. Перед войной, в начале сороковых, все три сестры Лапшины были уже за мужем. Старшая привела в дом красавца – кудрявого еврейского парня Александра, младшая – улыбчивая, очень женственная Паля, – строгого перспективного Николая, занимавшего высокий пост на одном из подмосковных заводов. Николай увез Павлу из родного кусковского гнезда да недалеко! Их дом стоял за Шереметьевским парком, на границе с которым жила семья Лапшиных.
Бывшая усадьба графов Шереметьевых, Кусково с его большим парком, с дворцом, оранжереей, скульптурами в тенистых аллеях, гротом со старыми каретами, итальянским и голландским домиками, трехсотлетним дубом-гигантом тоже как бы стал частью жизни семьи. Все потомки Лапшиных выгуливали детей в парке дворянской усадьбы, купались в графском пруду, катались на велосипедах по обширной лесопарковой зоне. Маленькие белые львы на площади перед дворцом видели целых четыре их поколения.
Третья сестра, красавица Тася, моя бабушка, вышла замуж перед самой войной. Думаю, это был шаг отчаянья, ведь она «до смерти», по ее словам, была влюблена в другого.
– Вот стою я на мосту, – рассказывала мне бабушка Тася сорок лет спустя, – и думаю: прыгнуть или не прыгнуть? В этот момент, видно, где-то на небесах решалась и моя судьба.
На счастье всем нам, она не прыгнула, а нашла в себе силы переступить и забыть. Тася вышла за муж за низкорослого, лысеющего Прошу из Тамбова, с которым в горе и в радости проживет долгую жизнь, а когда он неожиданно покинет этот мир, она не сможет его пережить и всего через три месяца последует за ним. Вот это и оказалось ее любовью до смерти, настоящей любовью!
Через два месяца после рождения их первой дочери Наташи грянет война, и Проша уйдет на фронт. Он пройдет через Сталинград и Курскую дугу. Через эту мясорубку, поглотившую тысячи жизней. А она будет скучать и поедет к нему на фронт, надеясь на встречу, бросив маленькую дочь на попеченье матери и сестрам. Она будет долго искать его, но они так и не встретятся. Прокофий Владимиров вернется с войны с грудью, полной орденов, и душой, искалеченной тяжелыми воспоминаниями. Тогда о войне много не рассказывали, старались забыть. Душевные раны были иногда глубже физических. Дедушка Проша молчал до самой смерти. А как спросишь про войну, на глаза его наворачивались слезы, он растеряно отворачивался, и бабушка просила:
– Не надо!
Будучи военным корреспондентом, Прокофий Владимиров почти сразу после демобилизации увезет семью в Корею, куда получит распределение как военный журналист.
Через несколько лет они вернутся на родину, в родной Кусковский дом, и нищий послевоенный быт раскрасят яркие, разноцветные шелковые кимоно, из которых все будут шить красивые шелковые платья. Жизнь снова брала свои права, и люди, как могли, пытались придать ей ярких красок.
В Москве уже родится вторая их дочка – Аня. К этому времени у всех сестер Лапшиных было по двое детей. И снова – девочки, девочки! Лишь у старшей Анны – сын Слава, кудрявый, похожий на отца.
В чем состояло большое человеческое счастье семьи Лапшиных? Никто не погиб и не был ранен на войне, никого не коснулись репрессии, наконец, никто не развелся, всем удалось сохранить свою семью, вырастить детей и дать им образование. По меркам сурового двадцатого века – настоящее везение!
Зятья, верные своим женам и разделившие с ними жизнь, тем не менее, внесли раздор в лапшинскую избу. Камнем преткновения опять стала война. Прокофий, пройдя всю Великую Отечественную до Кёнигсберга и вернувшись с фронта кавалером трех орденов «Красного знамени», стал задавать неудобные вопросы родственникам. «Почему не воевали?!» – резко спрашивал он мужей Анны и Павлы. Разговоры на эту тему всегда заканчивались ссорами. Павлин муж был вызван с фронта еще в 1942 – обеспечивать работу завода, Анин вроде бы был болен. Но заданный в лоб, неудобный вопрос ударял по больному, и зятья до конца жизни почти не общались между собой.
Видимо, эта их неприязнь привела в дальнейшем и к разобщенности самих сестер. Старшая и младшая стали намного ближе друг другу. Однажды маленькая Аня, младшая дочка Таисии, наблюдала сцену, которая глубоко врезалась ей в память и осталась душевной раной на всю жизнь.
– Я была совсем ребенком, – рассказывала мне она, – и мои тетки думали, что я еще ничего не понимаю. Они делили при мне драгоценности бабушки Анны Макарьевны. Большое пасхальное яйцо с бабушкиными украшениями. И моя мама про это ничего не знала! Вот такое большое золотое яйцо…
Она округляла пальцы, разводила руки и широко раскрывала глаза, вспоминая события, произошедшие много лет назад, как сегодня, хотя к тому времени сама была уже бабушкой и очень состоятельной женщиной. Мне иногда кажется, что тетя Аня стала богатой и успешной, обожала дорогие украшение и бриллианты, имела дом в самом престижном районе Подмосковья только благодаря тому, что всю жизнь пыталась изжить в себе этот комплекс маленькой девочки, семью которой незаконно обделили родственники. Не те ли это были драгоценности, которые везла на себе юная Тася, убегая из родного Юрьевца?
Няня Вера Петровна помогала, конечно, растить и это поколение народившихся в трудные суровые военные и послевоенные годы малышей. Она работала по дому, ухаживала за единственной коровой в сенях, которая обеспечивала семью молоком. Кажется, из-за этой коровы маленькая Вера как-то в войну и поскользнулась на льду… Врачи не смогли сохранить сломанную ногу, и её пришлось ампутировать.
Помню, как няня сидела на диване перед телевизором, что-то смотрела и вязала или вышивала, спустив очки на кончик носа. Иногда она поворачивала какой-то немудрённый механизм, и искусственная нога ее отстегивалась. За ней показывался аккуратный розовый обрубок. Все это для нас, четвертого поколения Лапшиных, народившегося в конце шестидесятых и семидесятых годах, было привычным и ничем не примечательным зрелищем. Вера Петровна тогда жила уже на половине старшей сестры Анны, которая после смерти матери взяла на себя заботу о ней. Мы с кузиной Сашей играли рядом и с интересом слушали ее рассказы и воспоминания, иногда чуть подшучивая над старой няней. От нее можно было услышать невероятные для нашего девичества и любопытные вещи. Например, что трусы в ее молодости под юбками носить было не принято:
– Тех, у кого увидим, мы дразнили мужичками! – поясняла няня. Действительно, женская мода за двадцатый век претерпела колоссальные изменения!
Няня порой немного ворчала, но никогда сильно на нас не ругалась. Она учила нас делать картинки из обожженной проволоки и, кажется, еще что-то вышивать. Она была частью нашего детства.
Послевоенная детвора росла, пропадая на улице: каталась на санках с горки у краснокирпичного голландского домика в Кусковском парке, играла в казаки-разбойники, рисуя веточками стрелки на аллеях, ходила в кино в клуб у станции или в старый дореволюционный кинотеатр Гай на советские и трофейные фильмы.
Детей в округе было много, и небольшая Кусковская школа, стоявшая неподалеку от въезда в Шереметьевский дворец, вмещала всех с трудом. Моя мама Наташа в отличие от нас, «ашек» и «бешек» семидесятых, училась в классе под буквой «Ж»!
– Ж? – в который раз спрашивала я маму и по алфавиту загибала пальцы: а, б, в, г, д, е… Это сколько же классов?! Три смены?!
С пожелтевших и помятых школьных фотографий на меня смотрит несколько десятков девочек в белых фартучках. Кто-то улыбается, кто-то глядит строго, исподлобья, а некоторые – совсем испугано. Эти крошки родились, как и моя мама, в тот год, когда началась война. Их первые шаги в жизни были периодом тяжелых испытаний для их семей, многие из них так и не увидели своих отцов. Ну, а мальчики? Мальчики тогда еще учились в других, отдельных классах. Разделение классов на мужские и женские существовало даже в середине прошлого века!
Иногда мы, новое поколение семьи Лапшиных, которое уже не жило в Кусково, а лишь проводило здесь летние каникулы, находили в дедушкином сарае старые детские журналы с рассказами, загадками, шарадами или небольшую фарфоровую куколку с качающейся головой в земле на огороде. Для нас это был таинственный, непонятный мир прошлого, мир детства наших родителей. Мама однажды рассказывала, как ее бабушка, Анна Макарьевна, готовила внукам после войны куриную лапшу:
– Бабушка брала яичко и быстро-быстро, – мама крутила кистью руки, – взбивала его, а потом бросала в кипящую воду. Было очень вкусно!
И всегда, даже в сытые годы, она оставалась в этом совершенно уверена! «Вкусно? – думала я. – Чудной куриный бульон без курицы!» Вспоминать бы теперь об этом, когда мы кормим куриным мясом своих собак!
Несмотря на скудный быт, в Кусковском доме всегда были рады гостям и ставили на стол все, что смогли приберечь. Лапшины праздники любили и готовились к ним основательно: пекли, резали, варили, украшали большой семейный стол.
Однажды майским праздничным днем стар и млад собрались вместе в гостиной за длинным дубовым столом, покрытым белой скатертью и уставленным всевозможными угощениями, салатами, пирогами, соленьями, с любовью приготовленными и расставленными женской половиной. На улице было жарко и душно, а в доме – многолюдно. Открытое настежь окно гостиной выходило в сад. Долгожданный ливень прорвал наконец потемневшее небо, и капли дождя забарабанили по крыше старого дома. Праздничный стол примыкал к окну, из которого в комнату врывалась спасительная прохлада. За столом, собравшим по традиции всю разросшуюся семью, было шумно и весело. Неожиданно все замолчали и замерли. Из открытого окна на стол в распахнутые створки через мокрый подоконник вкатилась шаровая молния. Огненный шар докатился до середины стола и на какой-то миг застыл. Вот сейчас они могли погибнуть все, все одновременно! О чем думали они тогда, сидя молча за столом и не двигаясь? Молились ли? А блестящий шар постоял немного и укатился обратно в сад. Бог снова миловал их, оставляя жить пока еще всех вместе.
Были ли Лапшины верующими? Об этом в то время не принято было говорить. Советский режим и вера были мало совместимы, и на посещающих оставшиеся действующими немногочисленные не разрушенные после революции церкви в СССР смотрели, как на изгоев. Но корни семьи Лапшиных, прочный фундамент их воспитания и традиций, заложенный в маленьком старинном городке на Волге, полном белоснежных храмов, оставляют на то надежду. Прабабушка Анна Макарьевна крестила свою первую внучку Наташу тайно и подарила ей на крестины подвеску: золотую веточку с сапфирами, часть великолепного ювелирного набора, вывезенного из Юрьевца.
Я и сама больше 20 лет ждала встречи с Богом. Однажды уже очень больная бабушка Тася сказала маме Наташе, показывая на меня:
– Надо бы ее в церковь сводить!
Это предложение, которое бабушка моя, видно, до этого долго обдумывала, повергло меня в шок. Для меня, ребенка развитого социализма, церковь была связана с мрачными мыслями о смерти и о крестах на кладбищах. Очень испугавшись, я стала плакать, напугав своими криками родных. Но шло время, страна менялась, храмы начали открываться вновь, и ветви семейного древа проросли и во мне. Я исполнила твою просьбу, бабушка!
Сегодня моя тихая молитва – о них всех, родных и давно ушедших…
К началу 80-х Кусковский дом умер вместе с самим пристанционным городком Кусково. Старые дома сломали, а освободившуюся территорию засадили деревьями и присоединили к Шереметьевскому парку. Сейчас на его аллеях уже не найти того места, где был наш дом. Словно его никогда и не существовало, будто не прошла здесь жизнь нашей большой и дружной семьи.
Он иногда снится мне наш Кусковский дом. В большой гостиной – длинный дубовый стол, упирающийся в окно, выходящее в сад, темно-коричневый сервант с ажурными белыми салфетками и вереницей маленьких каменных слоников, большой старинный буфет с вытянувшимися вверх резными сказочными птицами, портрет в черной раме над диваном, печка за дверью, комната няни, сени, где стоят огромные кованные сундуки, в которых, как мне казалось в детстве, хранились бальные платья принцесс. И вот в углу – высокая серая лестница, ведущая на второй этаж. Подымаясь сегодня по деревянным ступеням своего загородного дома, я и полвека спустя слышу шаги, глухо отдающиеся на темной лестнице, ведущей на второй этаж в Кусково. Много раз повторяется этот звук, всегда один и тот же: подошвы и каблуки, ударяющие по деревянным ступеням, эхо моего детства. Воспоминания – где-то там, в глубине меня, как и все близкие, родные, которых уже давно нет рядом.
…Старая женщина тычет палкой в паркет, а они все лезут и лезут, она не в силах их остановить, но храбро и стойко с ними сражается. Что мы про это знаем, чтобы судить? Пережили ли то, что пережила она? Видели ли мы когда-нибудь мир ее глазами?..
Если молния меня не убила –
то гром мне,
ей-богу, не страшен.
(В. Маяковский)
Маленькая старушка сидит на кровати, свесив ноги в домашних тапочках. На голове у нее – яркий новый платок, видно, «приоделась» к приходу гостей. Из-под платка на лбу с глубокими морщинами виднеется полоска седых волос, зачесанных в редкую серенькую косичку. Она похожа на маленькую мышку с чуть розоватым и будто мокрым кончиком носа. Старушка такая миниатюрная, что дети, еще даже не подростки, которые только вбежали в комнату и остановились у ее кровати, кажутся выше ее ростом. Детвора, приехавшая сегодня на семейный праздник, даже точно не помнит, как ее зовут. Они знают ее просто как няню, и даже не потому что она их воспитывала (ей ведь уже под девяносто), просто няня всю жизнь была частью их большой семьи, кажется, она жила с ними всегда. С виду добрая, с чуть простоватым выражением лица, пожилая женщина в этот момент настойчиво бьет своей палкой в паркет куда-то перед собой и как-то даже деловито и спокойно повторяет:
– Вон, глянь, опять полезли! Вон, еще пополз!
Она прицеливается и снова тыкает палкой в пол, будто пытаясь уничтожить кого-то, с кем в этот момент борется. Дети подходят ближе. Поведение старушки их забавляет:
– Кто, няня, кто ползет?!
–Да черви; вон, разве не видите?! – отвечает старая няня, продолжая свою охоту на кого-то неведомого.
Из соседней комнаты раздаются оживленные голоса: взрослые члены семьи празднуют чей-то день рождения. Тосты, смех, воспоминания; детям все это быстро наскучило. Они уже наелись и ждут, когда на столе появится коронное блюдо бабушки Ани – тянучка. Никто так не умеет варить ее, как она. Из обычной банки сгущенки получается волшебная карамель янтарного цвета, тягучая и невероятно вкусная. Гвоздь семейной программы!
С тех пор, как все разъехались из большого старинного дома по московским квартирам, встречаться стали редко, но каждый день рождения – повод заполнить чью-то маленькую квартирку шумной семейной компанией и достать с антресолей заветные домашние заготовки и припасы. Пока эти встречи продолжаются, они – одна семья и члены одного рода. Даже если их общего дома, семейного гнезда уже нет. Даже если вскоре один за другим они начнут уходить, и шумные праздники заменят застолья на поминках.
Старая няня Вера Петровна провела в этой семье больше семидесяти лет, разделив с ней всю ее долгую и непростую жизнь, хотя совсем и не была им родственницей. Когда-то она пришла в их дом худенькой низкорослой девочкой с большой русой косой и осталась здесь навсегда. У нее не было ни мужа, ни своих детей, лишь только их семья и их дом, одним из символов которого она стала.
– Знаешь, почему у меня так мало волос осталось? – как-то спросила у меня, еще дошкольницы, няня, расчесывая седые редкие пряди, заплетая их в тонкую косицу и затем прилаживая на голове черными шпильками в пучок. – Бабушка твоя выдрала. Никак не хотела засыпать! Лежала в кроватке, совсем маленькая была, болела и все драла и драла мои волосы…
Мое воображение с трудом рисовало бабушку Тасю, к тому времени уже пенсионерку, младенцем, дергающим нянины волосы, чтобы успокоиться и уснуть, чтобы прошло недомогание. Вот так няня жертвовала собой, и неудивительно, что для детей, которых воспитала, она стала, возможно, ближе матери…
Было это далеко от Москвы, там, где начиналась наша история, где зародились отношения, которые стали корнем и основанием большого семейного дерева – на берегу широкой Волги в небольшом городке под названием Юрьевец.
Юрьевец лишь немногим младше Москвы. Застроенный деревянными купеческими и мещанскими домами и белоснежными каменными храмами, город делился в ту пору на нижний (у самой воды) и верхний (на холмах).
Нижнего города сегодня уже нет. Он ушел под воду после строительства Горьковской ГЭС. Разлившаяся вода поглотила часть Юрьевца с домами, церквями и набережными, как фантастический гигантский кит. Высокая колокольня после затопления нижней части города какое-то время еще торчала из волжских глубин, напоминая о его гибели, санкционированной новым советским руководством.
Но верхний город стоит, и когда мне удалось где-то в семидесятые, еще в детстве, побывать там, первая старушка на лавочке, которую мои родители спросили про дом Лапшиных, сразу указала нам дорогу, хотя семьи Лапшиных к тому времени не было в Юрьевце уже больше сорока лет.
Мы подошли к большому деревянному зданию, с годами почерневшему, но крепко сложенному и все еще хорошо держащему форму. Дом этот когда-то был доходным, и мой прадед, Василий Никанорович, не просто жил в нем с женой и детьми на широкую ногу, но и сдавал здесь комнаты постояльцам. В тридцатые годы двадцатого века семья Лапшиных считалась в Юрьевце зажиточной и именитой.
А ведь еще лет за пятнадцать до этого Василий Лапшин был так беден, что когда он полюбил статную зеленоглазую девушку Анну с тёмно-русой косой и сделал предложение, ему отказали. Красавицу Анну выдали замуж за другого. Погоревав, Василий тоже женился. Все это в те времена означало окончательно и навсегда, особенно в крепких купеческих семьях. Василий и Анна тогда были слишком далеки от того, чтобы стать одной семьей.
И тут наступает черед то ли магии обстоятельств, то ли Божьего промысла.
Прошел год, и вот Анна пришла в храм к своему духовному отцу и на исповеди призналась:
– Год живу с мужем, батюшка, а все еще девственница я…
Первый муж Анны, придя незадолго до того с полей войны, как выяснилось, был теперь неспособен иметь семью и детей. И представьте, даже в те, совсем не свободные для женщин времена, когда жене можно было легко указать на ее место, это стало поводом для развода! Анну развели.
И тут неожиданно оказалось, что Василий тоже свободен. Первая жена его недавно умерла. Не позволил Бог разделить этих двоих! Видно, поняли это и родители девушки и дали наконец свое благословение на брак.
На старых фотографиях он – красивый широколобый брюнет с лихими усами. Она – статная, с большой темной косой, тонким носом и слегка строгими, слегка задумчивыми добрыми глазами.
Их портрет в резной черной раме всегда висел в семейном доме в гостиной над большим, задрапированным бело-зеленой тканью диваном с круглыми валиками по бокам, перед которым стоял длинный дубовый стол, свидетель веселых праздников, дружных застолий, но и больших семейных и личных трагедий.
– Какая красивая история! Это была настоящая любовь на всю жизнь, правда? – спрашивала я маму. Та, кажется, отдавала решение на мой собственный суд. Дед Василий, проживший с женой много десятилетий, воспитавший троих детей, не был человеком постоянным и верным. Как случается у многих, гулял. Много ли, мало – кто теперь расскажет? Но, говорили, был у него роман даже с маленькой няней Верой. А там уж и дальше. Под конец он вообще ушел из семьи. Вернулся, рассказывают, домой глубоким онкологическим больным… А бабушка Анна? Она не только приняла его, но и до самой смерти сама выхаживала! Столько было силы и терпения в этой женщине, а еще, наверное, настоящей любви. Но нам ли судить об их чувствах? Анна пережила Василия на много лет. Она стала мудрой главой большого семейства. От нее дочери и внучки с молоком впитали, что значит верная жена и мать, и как, несмотря ни на что, надо беречь свою семью и близких. Она умерла в тот год, когда я появилась на свет.
– Какой она была, прабабушка Анна Макарьевна? – спрашивала я отца.
– Добрая такая, – отвечал он, – очень вкусные пироги пекла.
– Сухая и абсолютно равнодушная к детям, – говорила моя тетка, названная в честь нее Анной.
Двадцатый век научил их выдержке и терпению, позволив выжить во всеобщей мясорубке, через которую они прошли (революция, НЭП, раскулачивание, война), и каким-то образом вырулить в этой сумасшедшей буре их корабль под названием «Семья». Трое детей, шестеро внуков, шестеро правнуков сохранили ощущение семьи и рода на долгие годы.
У Василия и Анны одна за другой родились в Юрьевце три дочери. Первая, конечно, Анна, в честь красавицы-матери. Вторая – моя бабушка Таисия, тоже красавица, но похожая больше на отца, третья – малышка со странно звучащим сегодня именем Павла.
По семейной легенде, каждый раз, когда крестные уносили очередного младенца на крещение в церковь, молодая мать просила: «Ниной назовите, пожалуйста! Пожалуйста, Ниной!» Но, видно, с мнением матерей в ту пору не слишком считались. Так и не появилось ни одной Нины в нашей богатой девочками семье.
В родном Юрьевце разросшаяся семья Лапшиных пережила революцию и гражданскую войну. Истерзанная страна вступила наконец в новую эру, которую молодое советское государство назвало Новой Экономической Политикой (НЭП). И вот здесь Василий Никанорович смог наконец проявить свою коммерческую жилку и очень поднялся. Семейный капитал стал быстро расти, и в тридцатые годы у Лапшиных уже было в городе два магазина, доходный дом, а по Волге ходила своя баржа с грузами. Казалось, жизнь семьи наконец наладилась. Дети росли, родители богатели. Старшая Анна уже заканчивала гимназию. Но трудности, выпавшие на их век, как видно, только начинались.
Советский режим, немного оправившись, стал затягивать петлю на шее тех, кто помог вытащить экономику страны из хаоса. Грянули сталинские репрессии.
Василий, очевидно, долго наблюдал, как сгущались тучи, как совершенно невинные люди только потому лишь, что у них было накоплено немного денег и собственности, теряли все и оказывались в тюрьмах и лагерях, а их дети заполняли детские приюты. Его не могла не волновать судьба близких. Природный купеческий ум и деловая хватка пригодились и здесь. Василий Никанорович действовал мудро и осторожно. Можно представить, как родители сначала обсуждали между собой тайный план побега в гостиной, за большим семейным столом, а потом осторожно начали вовлекать в него девочек. Вернее, двух старших сестер, младшая была еще совсем малышкой.
Первой уехала из родного дома старшая дочь Анна. Под каким уж предлогом? Она никогда не рассказывала... Девушка, которой тогда едва исполнилось семнадцать, должна была добраться до Москвы и выбрать для семьи новое место для жизни. Расчет был на то, что в огромном мегаполисе всегда можно найти работу и легко затеряться. Второй покинула Юрьевец моя бабушка, четырнадцатилетняя Таисия. Ей были вручены и спрятаны на ней или где-то в вещах все семейные драгоценности: мамины украшения и золотые дореволюционные монеты, хождение и хранение которых к тому времени было строжайше запрещено. Родители решили, что подростка никто не заподозрит. Но эта маленькая девочка, отправляясь в дальнюю дорогу в такое непростое время и с таким грузом, конечно, очень рисковала.
Оставшиеся члены семьи «снялись с якоря» неожиданно для окружающих.
– Я отдаю добровольно всю свою собственность, все, что мне принадлежит, советскому государству, – объявил Василий властям и, пока никто не успел опомнится, нырнул в неизвестность...
В Москве, а вернее, в небольшом тогда подмосковном городке-станции Кусково рядом со знаменитым дворцом графов Шереметьевых Лапшины купят новый дом, который станет их семейным гнездом на долгие годы, символом всей семьи и колыбелью для нового военного и послевоенного поколений.
Шел 1932 год. До Второй мировой оставалось еще почти десятилетие. За это время девочки вырастут и начнут самостоятельную жизнь. Перед войной, в начале сороковых, все три сестры Лапшины были уже за мужем. Старшая привела в дом красавца – кудрявого еврейского парня Александра, младшая – улыбчивая, очень женственная Паля, – строгого перспективного Николая, занимавшего высокий пост на одном из подмосковных заводов. Николай увез Павлу из родного кусковского гнезда да недалеко! Их дом стоял за Шереметьевским парком, на границе с которым жила семья Лапшиных.
Бывшая усадьба графов Шереметьевых, Кусково с его большим парком, с дворцом, оранжереей, скульптурами в тенистых аллеях, гротом со старыми каретами, итальянским и голландским домиками, трехсотлетним дубом-гигантом тоже как бы стал частью жизни семьи. Все потомки Лапшиных выгуливали детей в парке дворянской усадьбы, купались в графском пруду, катались на велосипедах по обширной лесопарковой зоне. Маленькие белые львы на площади перед дворцом видели целых четыре их поколения.
Третья сестра, красавица Тася, моя бабушка, вышла замуж перед самой войной. Думаю, это был шаг отчаянья, ведь она «до смерти», по ее словам, была влюблена в другого.
– Вот стою я на мосту, – рассказывала мне бабушка Тася сорок лет спустя, – и думаю: прыгнуть или не прыгнуть? В этот момент, видно, где-то на небесах решалась и моя судьба.
На счастье всем нам, она не прыгнула, а нашла в себе силы переступить и забыть. Тася вышла за муж за низкорослого, лысеющего Прошу из Тамбова, с которым в горе и в радости проживет долгую жизнь, а когда он неожиданно покинет этот мир, она не сможет его пережить и всего через три месяца последует за ним. Вот это и оказалось ее любовью до смерти, настоящей любовью!
Через два месяца после рождения их первой дочери Наташи грянет война, и Проша уйдет на фронт. Он пройдет через Сталинград и Курскую дугу. Через эту мясорубку, поглотившую тысячи жизней. А она будет скучать и поедет к нему на фронт, надеясь на встречу, бросив маленькую дочь на попеченье матери и сестрам. Она будет долго искать его, но они так и не встретятся. Прокофий Владимиров вернется с войны с грудью, полной орденов, и душой, искалеченной тяжелыми воспоминаниями. Тогда о войне много не рассказывали, старались забыть. Душевные раны были иногда глубже физических. Дедушка Проша молчал до самой смерти. А как спросишь про войну, на глаза его наворачивались слезы, он растеряно отворачивался, и бабушка просила:
– Не надо!
Будучи военным корреспондентом, Прокофий Владимиров почти сразу после демобилизации увезет семью в Корею, куда получит распределение как военный журналист.
Через несколько лет они вернутся на родину, в родной Кусковский дом, и нищий послевоенный быт раскрасят яркие, разноцветные шелковые кимоно, из которых все будут шить красивые шелковые платья. Жизнь снова брала свои права, и люди, как могли, пытались придать ей ярких красок.
В Москве уже родится вторая их дочка – Аня. К этому времени у всех сестер Лапшиных было по двое детей. И снова – девочки, девочки! Лишь у старшей Анны – сын Слава, кудрявый, похожий на отца.
В чем состояло большое человеческое счастье семьи Лапшиных? Никто не погиб и не был ранен на войне, никого не коснулись репрессии, наконец, никто не развелся, всем удалось сохранить свою семью, вырастить детей и дать им образование. По меркам сурового двадцатого века – настоящее везение!
Зятья, верные своим женам и разделившие с ними жизнь, тем не менее, внесли раздор в лапшинскую избу. Камнем преткновения опять стала война. Прокофий, пройдя всю Великую Отечественную до Кёнигсберга и вернувшись с фронта кавалером трех орденов «Красного знамени», стал задавать неудобные вопросы родственникам. «Почему не воевали?!» – резко спрашивал он мужей Анны и Павлы. Разговоры на эту тему всегда заканчивались ссорами. Павлин муж был вызван с фронта еще в 1942 – обеспечивать работу завода, Анин вроде бы был болен. Но заданный в лоб, неудобный вопрос ударял по больному, и зятья до конца жизни почти не общались между собой.
Видимо, эта их неприязнь привела в дальнейшем и к разобщенности самих сестер. Старшая и младшая стали намного ближе друг другу. Однажды маленькая Аня, младшая дочка Таисии, наблюдала сцену, которая глубоко врезалась ей в память и осталась душевной раной на всю жизнь.
– Я была совсем ребенком, – рассказывала мне она, – и мои тетки думали, что я еще ничего не понимаю. Они делили при мне драгоценности бабушки Анны Макарьевны. Большое пасхальное яйцо с бабушкиными украшениями. И моя мама про это ничего не знала! Вот такое большое золотое яйцо…
Она округляла пальцы, разводила руки и широко раскрывала глаза, вспоминая события, произошедшие много лет назад, как сегодня, хотя к тому времени сама была уже бабушкой и очень состоятельной женщиной. Мне иногда кажется, что тетя Аня стала богатой и успешной, обожала дорогие украшение и бриллианты, имела дом в самом престижном районе Подмосковья только благодаря тому, что всю жизнь пыталась изжить в себе этот комплекс маленькой девочки, семью которой незаконно обделили родственники. Не те ли это были драгоценности, которые везла на себе юная Тася, убегая из родного Юрьевца?
Няня Вера Петровна помогала, конечно, растить и это поколение народившихся в трудные суровые военные и послевоенные годы малышей. Она работала по дому, ухаживала за единственной коровой в сенях, которая обеспечивала семью молоком. Кажется, из-за этой коровы маленькая Вера как-то в войну и поскользнулась на льду… Врачи не смогли сохранить сломанную ногу, и её пришлось ампутировать.
Помню, как няня сидела на диване перед телевизором, что-то смотрела и вязала или вышивала, спустив очки на кончик носа. Иногда она поворачивала какой-то немудрённый механизм, и искусственная нога ее отстегивалась. За ней показывался аккуратный розовый обрубок. Все это для нас, четвертого поколения Лапшиных, народившегося в конце шестидесятых и семидесятых годах, было привычным и ничем не примечательным зрелищем. Вера Петровна тогда жила уже на половине старшей сестры Анны, которая после смерти матери взяла на себя заботу о ней. Мы с кузиной Сашей играли рядом и с интересом слушали ее рассказы и воспоминания, иногда чуть подшучивая над старой няней. От нее можно было услышать невероятные для нашего девичества и любопытные вещи. Например, что трусы в ее молодости под юбками носить было не принято:
– Тех, у кого увидим, мы дразнили мужичками! – поясняла няня. Действительно, женская мода за двадцатый век претерпела колоссальные изменения!
Няня порой немного ворчала, но никогда сильно на нас не ругалась. Она учила нас делать картинки из обожженной проволоки и, кажется, еще что-то вышивать. Она была частью нашего детства.
Послевоенная детвора росла, пропадая на улице: каталась на санках с горки у краснокирпичного голландского домика в Кусковском парке, играла в казаки-разбойники, рисуя веточками стрелки на аллеях, ходила в кино в клуб у станции или в старый дореволюционный кинотеатр Гай на советские и трофейные фильмы.
Детей в округе было много, и небольшая Кусковская школа, стоявшая неподалеку от въезда в Шереметьевский дворец, вмещала всех с трудом. Моя мама Наташа в отличие от нас, «ашек» и «бешек» семидесятых, училась в классе под буквой «Ж»!
– Ж? – в который раз спрашивала я маму и по алфавиту загибала пальцы: а, б, в, г, д, е… Это сколько же классов?! Три смены?!
С пожелтевших и помятых школьных фотографий на меня смотрит несколько десятков девочек в белых фартучках. Кто-то улыбается, кто-то глядит строго, исподлобья, а некоторые – совсем испугано. Эти крошки родились, как и моя мама, в тот год, когда началась война. Их первые шаги в жизни были периодом тяжелых испытаний для их семей, многие из них так и не увидели своих отцов. Ну, а мальчики? Мальчики тогда еще учились в других, отдельных классах. Разделение классов на мужские и женские существовало даже в середине прошлого века!
Иногда мы, новое поколение семьи Лапшиных, которое уже не жило в Кусково, а лишь проводило здесь летние каникулы, находили в дедушкином сарае старые детские журналы с рассказами, загадками, шарадами или небольшую фарфоровую куколку с качающейся головой в земле на огороде. Для нас это был таинственный, непонятный мир прошлого, мир детства наших родителей. Мама однажды рассказывала, как ее бабушка, Анна Макарьевна, готовила внукам после войны куриную лапшу:
– Бабушка брала яичко и быстро-быстро, – мама крутила кистью руки, – взбивала его, а потом бросала в кипящую воду. Было очень вкусно!
И всегда, даже в сытые годы, она оставалась в этом совершенно уверена! «Вкусно? – думала я. – Чудной куриный бульон без курицы!» Вспоминать бы теперь об этом, когда мы кормим куриным мясом своих собак!
Несмотря на скудный быт, в Кусковском доме всегда были рады гостям и ставили на стол все, что смогли приберечь. Лапшины праздники любили и готовились к ним основательно: пекли, резали, варили, украшали большой семейный стол.
Однажды майским праздничным днем стар и млад собрались вместе в гостиной за длинным дубовым столом, покрытым белой скатертью и уставленным всевозможными угощениями, салатами, пирогами, соленьями, с любовью приготовленными и расставленными женской половиной. На улице было жарко и душно, а в доме – многолюдно. Открытое настежь окно гостиной выходило в сад. Долгожданный ливень прорвал наконец потемневшее небо, и капли дождя забарабанили по крыше старого дома. Праздничный стол примыкал к окну, из которого в комнату врывалась спасительная прохлада. За столом, собравшим по традиции всю разросшуюся семью, было шумно и весело. Неожиданно все замолчали и замерли. Из открытого окна на стол в распахнутые створки через мокрый подоконник вкатилась шаровая молния. Огненный шар докатился до середины стола и на какой-то миг застыл. Вот сейчас они могли погибнуть все, все одновременно! О чем думали они тогда, сидя молча за столом и не двигаясь? Молились ли? А блестящий шар постоял немного и укатился обратно в сад. Бог снова миловал их, оставляя жить пока еще всех вместе.
Были ли Лапшины верующими? Об этом в то время не принято было говорить. Советский режим и вера были мало совместимы, и на посещающих оставшиеся действующими немногочисленные не разрушенные после революции церкви в СССР смотрели, как на изгоев. Но корни семьи Лапшиных, прочный фундамент их воспитания и традиций, заложенный в маленьком старинном городке на Волге, полном белоснежных храмов, оставляют на то надежду. Прабабушка Анна Макарьевна крестила свою первую внучку Наташу тайно и подарила ей на крестины подвеску: золотую веточку с сапфирами, часть великолепного ювелирного набора, вывезенного из Юрьевца.
Я и сама больше 20 лет ждала встречи с Богом. Однажды уже очень больная бабушка Тася сказала маме Наташе, показывая на меня:
– Надо бы ее в церковь сводить!
Это предложение, которое бабушка моя, видно, до этого долго обдумывала, повергло меня в шок. Для меня, ребенка развитого социализма, церковь была связана с мрачными мыслями о смерти и о крестах на кладбищах. Очень испугавшись, я стала плакать, напугав своими криками родных. Но шло время, страна менялась, храмы начали открываться вновь, и ветви семейного древа проросли и во мне. Я исполнила твою просьбу, бабушка!
Сегодня моя тихая молитва – о них всех, родных и давно ушедших…
К началу 80-х Кусковский дом умер вместе с самим пристанционным городком Кусково. Старые дома сломали, а освободившуюся территорию засадили деревьями и присоединили к Шереметьевскому парку. Сейчас на его аллеях уже не найти того места, где был наш дом. Словно его никогда и не существовало, будто не прошла здесь жизнь нашей большой и дружной семьи.
Он иногда снится мне наш Кусковский дом. В большой гостиной – длинный дубовый стол, упирающийся в окно, выходящее в сад, темно-коричневый сервант с ажурными белыми салфетками и вереницей маленьких каменных слоников, большой старинный буфет с вытянувшимися вверх резными сказочными птицами, портрет в черной раме над диваном, печка за дверью, комната няни, сени, где стоят огромные кованные сундуки, в которых, как мне казалось в детстве, хранились бальные платья принцесс. И вот в углу – высокая серая лестница, ведущая на второй этаж. Подымаясь сегодня по деревянным ступеням своего загородного дома, я и полвека спустя слышу шаги, глухо отдающиеся на темной лестнице, ведущей на второй этаж в Кусково. Много раз повторяется этот звук, всегда один и тот же: подошвы и каблуки, ударяющие по деревянным ступеням, эхо моего детства. Воспоминания – где-то там, в глубине меня, как и все близкие, родные, которых уже давно нет рядом.
…Старая женщина тычет палкой в паркет, а они все лезут и лезут, она не в силах их остановить, но храбро и стойко с ними сражается. Что мы про это знаем, чтобы судить? Пережили ли то, что пережила она? Видели ли мы когда-нибудь мир ее глазами?..

Лилия АБАШЕВА
Это моя первая публикация, и мне очень и очень приятно впервые печататься на страницах альманаха «Река времени». Я – натура творческая, с детства люблю читать книги. В совершенстве знаю языки – татарский и русский. При желании могу общаться на английском. Работаю швеёй, а в свободное время пишу картины на заказ. Меня всегда увлекала проза татарских писателей. На творчество вдохновляли национальные песни. Книга «Меня здесь нет» пропитана татарским колоритом, в ней – история одной семьи. Здесь представлена маленькая часть из книги.
Картины – мои работы – воспоминания о татарской деревне Иске Өчурам.
Это моя первая публикация, и мне очень и очень приятно впервые печататься на страницах альманаха «Река времени». Я – натура творческая, с детства люблю читать книги. В совершенстве знаю языки – татарский и русский. При желании могу общаться на английском. Работаю швеёй, а в свободное время пишу картины на заказ. Меня всегда увлекала проза татарских писателей. На творчество вдохновляли национальные песни. Книга «Меня здесь нет» пропитана татарским колоритом, в ней – история одной семьи. Здесь представлена маленькая часть из книги.
Картины – мои работы – воспоминания о татарской деревне Иске Өчурам.
ДЕРЕВЕНСКИЕ МОТИВЫ
(отрывок из книги Л. Абашевой «Меня здесь нет»)
Бабушка Фаниза заставляла всех детей помогать по огороду. Дина, Лиана и младшенький Игнат, как только просыпались, слышали приказный тон бабушки.
– Вставайте! На картошку!
– Ну что, опять? Мы же вчера там были! – бубнил спросонья Игнат.
– На картошку, на картошку… достала уже с этой картошкой… – ворчала недовольная Дина. – Я б лучше с девчонками пошла гулять!
– На картошку, значит, на картошку! Мы же всё-таки у бабушки в деревне, забыли? – подбадривала сестру и братика Лиана.
У неё был неунывающий характер, и все события она воспринимала (по крайней мере, старалась воспринимать) в позитивном ключе.
Напоив внуков чаем, бабушка отправляла всех окучивать картошку. Отказы не обсуждались! Здесь командиром была бабушка Фаниза!
Лиана не смирилась со смертью любимого дедушки. С его уходом перемену настроения в жизни она почувствовала первой. В деревне теперь им были не рады…
Без дедушки Асхаба некому было утешить и пожалеть Лиану – среднюю дочку в семье Раины и Ваиля. На татарском стали говорить меньше, а сейчас друг с другом вообще никто не разговаривал спокойно.
Родители продолжали ссориться. На протяжении долгих лет совместной жизни. Не понимали, а точнее, совсем не хотели понять друг друга. Мужчина выпивал, незаметно превращаясь в алкоголика. Женщина бестолково продолжала унижать его. Скандалы в доме не прекращались, и единственным спасением для детей были поездки в деревню.
Спасения на самом деле не было, но была хотя бы смена обстановки, когда дети могли не видеть склоки родителей.
После смерти деда бабушка отнюдь не хотела видеть сноху с детьми, упрекая в том, что сын пьёт из-за жены. Свекровь считала её лентяйкой и растяпой. И при любом удобном случае упрёки летели в сторону Раины. Такое положение дел женщину, конечно, не устраивало, но она молчала.
Ради детей. Ради их пусть маленького, но счастья.
Мать аккуратно завязывала на головах детей банданы и отправляла их в поле, в самое пекло – так велела свекровь.
Бабушка Фаниза запирала дом, а ключи клала в карманы старых штанов. Зелёные тёплые штаны мгновенно вызывали смех у Лианы. Как только она видела на бабушке эти штаны, еле сдерживалась от смеха.
Она думала: «Ну, как же так можно? Зимой и летом ходить в одних и тех же штанах?! И ещё поверх надевать своё растрёпанное платье в горох?!»
Огород был огромным. Если смотреть со стороны погреба, то ни конца, ни края огороду не было, а заодно и этой картошке! Конечно, дети уставали. Лиане казалось, что работа никогда не закончится. Было очень тяжело. Жара. Солнце палит. К полудню всем становилось дурно. Мир превращался в пекло. Игнату, как самому маленькому, давали поблажки. Он сначала работал со всеми, а потом сидел у погреба и отдыхал. В этот вечер в дом возвращались еле-еле.
Лиана была девочкой, но в преддверии жизни будущего подростка. Она начала мечтать. В мечтах ей было хорошо. Вечерами от обиды, что старшей сестре разрешают гулять, а ей – нет, злилась на Дину и всеми силами мешала ей. Прятала её одежду, сандалии. Ей тоже хотелось присутствовать при деревенских парнях, но ей мама строго говорила: «Ярамый! Кечкенә бит әле!»
От злости Лиана кричала на сестру, не понимала, как такое может быть, почему ей не разрешают гулять, ведь она так хочет казаться взрослее своего одиннадцатилетнего возраста.
Было круто.
Летом ощущались непередаваемый деревенский простор и свобода. Лиана познакомилась с одним мальчишкой её возраста. Общалась с ним исключительно из-за велосипеда. На мелочь, что оставалась от покупки хлеба, в магазине она выбирала фруктовую жвачку. Получается, у Лианы происходила первая в жизни «деловая» сделка! Жвачку презентовала Ренату, а сама каталась на его велосипеде. Ренат был единственным мальчиком, кто общался с нею.
Он нравился. Лиана с нетерпением ждала не столько, чтобы покататься на велосипеде, но ещё больше, чтоб увидеть его… Ужасно ревновала, если он давал велик кому-то ещё. Именно это начали замечать соседские девочки, они стали над ней подтрунивать и смеяться.
Лиана стояла в центре улицы, смущённо опустив голову, и твердила, что она вовсе не влюблена в него, а просто хочет покататься на велосипеде.
– Вы что, с ума посходили все? Разве не понимаете? Мне кататься просто не на чем! Не на чем!
Девочки только смеялись, видя её пунцовое от смущения лицо.
(отрывок из книги Л. Абашевой «Меня здесь нет»)
Бабушка Фаниза заставляла всех детей помогать по огороду. Дина, Лиана и младшенький Игнат, как только просыпались, слышали приказный тон бабушки.
– Вставайте! На картошку!
– Ну что, опять? Мы же вчера там были! – бубнил спросонья Игнат.
– На картошку, на картошку… достала уже с этой картошкой… – ворчала недовольная Дина. – Я б лучше с девчонками пошла гулять!
– На картошку, значит, на картошку! Мы же всё-таки у бабушки в деревне, забыли? – подбадривала сестру и братика Лиана.
У неё был неунывающий характер, и все события она воспринимала (по крайней мере, старалась воспринимать) в позитивном ключе.
Напоив внуков чаем, бабушка отправляла всех окучивать картошку. Отказы не обсуждались! Здесь командиром была бабушка Фаниза!
Лиана не смирилась со смертью любимого дедушки. С его уходом перемену настроения в жизни она почувствовала первой. В деревне теперь им были не рады…
Без дедушки Асхаба некому было утешить и пожалеть Лиану – среднюю дочку в семье Раины и Ваиля. На татарском стали говорить меньше, а сейчас друг с другом вообще никто не разговаривал спокойно.
Родители продолжали ссориться. На протяжении долгих лет совместной жизни. Не понимали, а точнее, совсем не хотели понять друг друга. Мужчина выпивал, незаметно превращаясь в алкоголика. Женщина бестолково продолжала унижать его. Скандалы в доме не прекращались, и единственным спасением для детей были поездки в деревню.
Спасения на самом деле не было, но была хотя бы смена обстановки, когда дети могли не видеть склоки родителей.
После смерти деда бабушка отнюдь не хотела видеть сноху с детьми, упрекая в том, что сын пьёт из-за жены. Свекровь считала её лентяйкой и растяпой. И при любом удобном случае упрёки летели в сторону Раины. Такое положение дел женщину, конечно, не устраивало, но она молчала.
Ради детей. Ради их пусть маленького, но счастья.
Мать аккуратно завязывала на головах детей банданы и отправляла их в поле, в самое пекло – так велела свекровь.
Бабушка Фаниза запирала дом, а ключи клала в карманы старых штанов. Зелёные тёплые штаны мгновенно вызывали смех у Лианы. Как только она видела на бабушке эти штаны, еле сдерживалась от смеха.
Она думала: «Ну, как же так можно? Зимой и летом ходить в одних и тех же штанах?! И ещё поверх надевать своё растрёпанное платье в горох?!»
Огород был огромным. Если смотреть со стороны погреба, то ни конца, ни края огороду не было, а заодно и этой картошке! Конечно, дети уставали. Лиане казалось, что работа никогда не закончится. Было очень тяжело. Жара. Солнце палит. К полудню всем становилось дурно. Мир превращался в пекло. Игнату, как самому маленькому, давали поблажки. Он сначала работал со всеми, а потом сидел у погреба и отдыхал. В этот вечер в дом возвращались еле-еле.
Лиана была девочкой, но в преддверии жизни будущего подростка. Она начала мечтать. В мечтах ей было хорошо. Вечерами от обиды, что старшей сестре разрешают гулять, а ей – нет, злилась на Дину и всеми силами мешала ей. Прятала её одежду, сандалии. Ей тоже хотелось присутствовать при деревенских парнях, но ей мама строго говорила: «Ярамый! Кечкенә бит әле!»
От злости Лиана кричала на сестру, не понимала, как такое может быть, почему ей не разрешают гулять, ведь она так хочет казаться взрослее своего одиннадцатилетнего возраста.
Было круто.
Летом ощущались непередаваемый деревенский простор и свобода. Лиана познакомилась с одним мальчишкой её возраста. Общалась с ним исключительно из-за велосипеда. На мелочь, что оставалась от покупки хлеба, в магазине она выбирала фруктовую жвачку. Получается, у Лианы происходила первая в жизни «деловая» сделка! Жвачку презентовала Ренату, а сама каталась на его велосипеде. Ренат был единственным мальчиком, кто общался с нею.
Он нравился. Лиана с нетерпением ждала не столько, чтобы покататься на велосипеде, но ещё больше, чтоб увидеть его… Ужасно ревновала, если он давал велик кому-то ещё. Именно это начали замечать соседские девочки, они стали над ней подтрунивать и смеяться.
Лиана стояла в центре улицы, смущённо опустив голову, и твердила, что она вовсе не влюблена в него, а просто хочет покататься на велосипеде.
– Вы что, с ума посходили все? Разве не понимаете? Мне кататься просто не на чем! Не на чем!
Девочки только смеялись, видя её пунцовое от смущения лицо.

Сергей САФОНОВ
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
С 2023 года печатается в альманахах издательства «Новое слово».
Родился в 1957 году. Детство провел на Сахалине. После окончания Дипломатической академии работал на внешнеполитическом поприще. Недавно стал пенсионером.
С 2023 года печатается в альманахах издательства «Новое слово».
РЕКА ВРЕМЕНИ
Раннее утро как-то сразу охватило дачный поселок, и скомканная предрассветной прохладой пелена тумана быстро рассеялась под лучами еще теплого солнца уже уходящего лета. Его яркие лучи, с легкостью пробившись сквозь давно выцветшие оконные занавески внутрь незамысловатого строения, прервали уже неглубокий сон Сергея Вячеславовича.
Он тихо, стараясь не скрипеть застаревшими пружинами дивана, поднялся с постели и после утренних процедур пошел на кухню готовить внуку молочную кашу. Вроде бы никто не просил его об этом, ни жена, ни жившая сейчас на даче дочь, но однажды как-то непроизвольно случившись, это занятие вошло у по-стариковски рано встающего пенсионера в устоявшуюся привычку.
Сергей Вячеславович достал из шкафа кастрюльку, плеснул в нее из стеклянной банки купленного накануне деревенского молока и поставил на замасленную плитку. На этом старом электрическим приборе каша без присмотра обычно пригорала, и глава семейства, во избежание кулинарного фиаско, неторопливо помешивал слегка пенящуюся белесую жидкость.
В то время как пшеничная дробленка постепенно набухала, монотонное движение руки и запах молока вдруг пробудили в нем, казалось бы, давно стертые из памяти воспоминания об одном из дней своего детства, прошедшего в далекой провинции.
Этот день, проведенный в детском саду, с самого начала не задался. На утренней прогулке воспитательница запретила углублять уже приличную по размерам лунку, которую они с другом уже несколько дней копали разными подручными средствами в надежде найти месторождение камен-ного угля или, по крайней мере, нефти.
Тогда дошколята пошли вдоль забора и, обнаружив лаз, выбрались наружу. Олег, лучший друг, полез первым, и ему повезло: в густой траве у ограды он нашел настоящий патрон. Несмотря на его небольшие размеры, отполированный латунный цилиндр было трудно не заметить, поскольку он ярко блестел на солнце, привлекая к себе внимание. Осмотрев находку, малыши решили, что это боевой патрон от пистолета, поскольку он был небольшого размера, его капсюль не имел вмятины, а свинцовая головка пули была округлой формы. Олег по-дружески дал немного подержать столь ценное приобретение, и друзья договорились сохранить случившееся в тайне. Однако внутренне Сережа досадовал, что волею случая не увидел этот патрон первым, и на обед пошел в расстроенных чувствах.
Он сел на привычное место за один из расставленных в комнате небольших квадратных столов и вместе с остальными детьми стал ждать, пока принесут подгоревший молочный суп, о вкусовых качествах которого можно было догадаться по доносившемуся из кухни характерному запаху. Наконец и над его тарелкой перевернулся половник, выплеснув матовую жидкость, в которой плавало несколько сероватых макаронин. Сережа зачерпнул ложкой суп и, вытянув губы, втянул в себя горячую молочную похлебку. Ее, не скупясь, подсластили, но эта кулинарная уловка не смог-ла перебить неприятный привкус жженного молока.
Малыш посмотрел на соседей, которые без тени сомнения поглощали предложенную еду, и стал решать, есть ему этот суп или нет. Сначала он отрешенно смотрел на тарелку с погруженной в молоко ложкой, но неожиданно для себя подумал: как было бы интересно узнать результат удара кулаком по концу нависающей над столом рукоятки столо-вого прибора. Сережа тут же представил себе, как взметнется вверх ложка, а над ней разлетятся бусины супа и кусок скользкой разваренной макаронины. Он все же хотел знать, как это будет выглядеть на самом деле. Пожалуй, тогда эта алюминиевая ложка была для него некой бабочкой Рэя Брэдбери, только не в прошлом, а в настоящем: ударь малыш по ней, и все бы изменилось, вся его предстоящая жизнь пошла бы по другому руслу.
Сережа в нерешительности еще раз обвел взглядом соседей по столику. «Нет, им этот мой поступок не понравится, они не поймут, – подумал он. – С каким недоумением они будут смотреть на меня и потом, наверное, как и все остальные дети, сторониться. Прибегут нянечка и воспитательница, которые начнут ругаться и допытываться, зачем я это сделал. Вечером Ирина Викторовна расскажет о случившемся отцу, который всегда интересуется моим поведением». Отца Сережа побаивался: совсем недавно ему досталось за то, что он по пожарной лестнице поднялся под самую крышу двухэтажного дома. Малыш скорее на подсознательном уровне почувствовал, чем здравым умом определил, что этот обеденный эксперимент доставит ему одни неприятности. Понурившись, он обхватил пальцами черенок ложки и принялся насилу пропихивать в себя столь неприятный на вкус, уже успевший поостыть суп.
С тех пор возникающее было стремление Сережи (в школе – Сереги или Сергея, а во взрослой жизни – Сергея Вячеславовича) проявить самостоятельность заглушалось появившейся привычкой действовать с оглядкой на статусных для него окружающих. Сначала он подстраивался под мнение родителей, их друзей и знакомых. Потом к ним добавились учителя, факультетское руководство в институте, а затем и начальствующие лица того учреждения, в которое он попал по распределению.
Им всем с ним было легко. Подопечный всегда старался улавливать мнения старших и действовать сообразно их взглядам. Порой это в какой-то мере способствовало продвижению вверх по карьерной лестнице – до тех пор, пока она ожидаемо не оборвалась с уходом на пенсию. До этого момента повседневная жизнь Сергея Вячеславовича долгие годы была наполнена серой бюрократической банальностью – исполнением и трансляцией на более низкий уровень руководящих указаний, желаний, а иногда и просто прихотей. Даже от честолюбивого стремления попробовать себя в эпистолярном жанре он, поддавшись насмешкам сослуживцев, отказался, хотя и с некоторым сожалением, но без особых терзаний на этот счет. Так и прошла большая часть жизни, в которой было затрачено много усилий для достижения самых разнообразных, проходящих калейдоскопом целей, но не создано ничего своего – запоминающегося, интересного другим.
Впрочем, сейчас он, пенсионер, отгоняя наплывшие воспоминания, стоял на кухне у плиты и выкладывал в тарелку, чтобы остудить, приготовленную кашу – внук горячую не любил. Здесь и пришла ему в голову эта шальная мысль. «Сейчас или никогда», – подбодрил себя Вячеславович. Он отставил кастрюлю в сторону, запустил ложку в стоявшую на столе глубокую тарелку, полную густой массы, и с силой ударил по выступающей наружу рукоятке. Старик увидел то, что и хотел: взмывшую вверх ложку, со звоном упавшую на пол, да описавшие дугу бесформенные комки каши, со смачным чмоканьем шлепнувшиеся и на пол, и на стол, и на стену. Не видел он только выражения глубокой досады, появившегося на его лице от вида этого жалкого зрелища.
«Нет, не вернуть вспять реку времени. Не прыгнуть, взметнувшись, назад – вверх по течению – даже не на годы, а только лишь на день или час, – горестно подумал Сергей Вячеславович. – Вот когда еще были силы, надо было найди присущий собственной натуре поток, окунуться в него с головой и, несмотря на все невзгоды, держаться в нем на плаву, держаться, невзирая ни на что, если бы я хотел оставить в этой жизни свой след».
Раннее утро как-то сразу охватило дачный поселок, и скомканная предрассветной прохладой пелена тумана быстро рассеялась под лучами еще теплого солнца уже уходящего лета. Его яркие лучи, с легкостью пробившись сквозь давно выцветшие оконные занавески внутрь незамысловатого строения, прервали уже неглубокий сон Сергея Вячеславовича.
Он тихо, стараясь не скрипеть застаревшими пружинами дивана, поднялся с постели и после утренних процедур пошел на кухню готовить внуку молочную кашу. Вроде бы никто не просил его об этом, ни жена, ни жившая сейчас на даче дочь, но однажды как-то непроизвольно случившись, это занятие вошло у по-стариковски рано встающего пенсионера в устоявшуюся привычку.
Сергей Вячеславович достал из шкафа кастрюльку, плеснул в нее из стеклянной банки купленного накануне деревенского молока и поставил на замасленную плитку. На этом старом электрическим приборе каша без присмотра обычно пригорала, и глава семейства, во избежание кулинарного фиаско, неторопливо помешивал слегка пенящуюся белесую жидкость.
В то время как пшеничная дробленка постепенно набухала, монотонное движение руки и запах молока вдруг пробудили в нем, казалось бы, давно стертые из памяти воспоминания об одном из дней своего детства, прошедшего в далекой провинции.
Этот день, проведенный в детском саду, с самого начала не задался. На утренней прогулке воспитательница запретила углублять уже приличную по размерам лунку, которую они с другом уже несколько дней копали разными подручными средствами в надежде найти месторождение камен-ного угля или, по крайней мере, нефти.
Тогда дошколята пошли вдоль забора и, обнаружив лаз, выбрались наружу. Олег, лучший друг, полез первым, и ему повезло: в густой траве у ограды он нашел настоящий патрон. Несмотря на его небольшие размеры, отполированный латунный цилиндр было трудно не заметить, поскольку он ярко блестел на солнце, привлекая к себе внимание. Осмотрев находку, малыши решили, что это боевой патрон от пистолета, поскольку он был небольшого размера, его капсюль не имел вмятины, а свинцовая головка пули была округлой формы. Олег по-дружески дал немного подержать столь ценное приобретение, и друзья договорились сохранить случившееся в тайне. Однако внутренне Сережа досадовал, что волею случая не увидел этот патрон первым, и на обед пошел в расстроенных чувствах.
Он сел на привычное место за один из расставленных в комнате небольших квадратных столов и вместе с остальными детьми стал ждать, пока принесут подгоревший молочный суп, о вкусовых качествах которого можно было догадаться по доносившемуся из кухни характерному запаху. Наконец и над его тарелкой перевернулся половник, выплеснув матовую жидкость, в которой плавало несколько сероватых макаронин. Сережа зачерпнул ложкой суп и, вытянув губы, втянул в себя горячую молочную похлебку. Ее, не скупясь, подсластили, но эта кулинарная уловка не смог-ла перебить неприятный привкус жженного молока.
Малыш посмотрел на соседей, которые без тени сомнения поглощали предложенную еду, и стал решать, есть ему этот суп или нет. Сначала он отрешенно смотрел на тарелку с погруженной в молоко ложкой, но неожиданно для себя подумал: как было бы интересно узнать результат удара кулаком по концу нависающей над столом рукоятки столо-вого прибора. Сережа тут же представил себе, как взметнется вверх ложка, а над ней разлетятся бусины супа и кусок скользкой разваренной макаронины. Он все же хотел знать, как это будет выглядеть на самом деле. Пожалуй, тогда эта алюминиевая ложка была для него некой бабочкой Рэя Брэдбери, только не в прошлом, а в настоящем: ударь малыш по ней, и все бы изменилось, вся его предстоящая жизнь пошла бы по другому руслу.
Сережа в нерешительности еще раз обвел взглядом соседей по столику. «Нет, им этот мой поступок не понравится, они не поймут, – подумал он. – С каким недоумением они будут смотреть на меня и потом, наверное, как и все остальные дети, сторониться. Прибегут нянечка и воспитательница, которые начнут ругаться и допытываться, зачем я это сделал. Вечером Ирина Викторовна расскажет о случившемся отцу, который всегда интересуется моим поведением». Отца Сережа побаивался: совсем недавно ему досталось за то, что он по пожарной лестнице поднялся под самую крышу двухэтажного дома. Малыш скорее на подсознательном уровне почувствовал, чем здравым умом определил, что этот обеденный эксперимент доставит ему одни неприятности. Понурившись, он обхватил пальцами черенок ложки и принялся насилу пропихивать в себя столь неприятный на вкус, уже успевший поостыть суп.
С тех пор возникающее было стремление Сережи (в школе – Сереги или Сергея, а во взрослой жизни – Сергея Вячеславовича) проявить самостоятельность заглушалось появившейся привычкой действовать с оглядкой на статусных для него окружающих. Сначала он подстраивался под мнение родителей, их друзей и знакомых. Потом к ним добавились учителя, факультетское руководство в институте, а затем и начальствующие лица того учреждения, в которое он попал по распределению.
Им всем с ним было легко. Подопечный всегда старался улавливать мнения старших и действовать сообразно их взглядам. Порой это в какой-то мере способствовало продвижению вверх по карьерной лестнице – до тех пор, пока она ожидаемо не оборвалась с уходом на пенсию. До этого момента повседневная жизнь Сергея Вячеславовича долгие годы была наполнена серой бюрократической банальностью – исполнением и трансляцией на более низкий уровень руководящих указаний, желаний, а иногда и просто прихотей. Даже от честолюбивого стремления попробовать себя в эпистолярном жанре он, поддавшись насмешкам сослуживцев, отказался, хотя и с некоторым сожалением, но без особых терзаний на этот счет. Так и прошла большая часть жизни, в которой было затрачено много усилий для достижения самых разнообразных, проходящих калейдоскопом целей, но не создано ничего своего – запоминающегося, интересного другим.
Впрочем, сейчас он, пенсионер, отгоняя наплывшие воспоминания, стоял на кухне у плиты и выкладывал в тарелку, чтобы остудить, приготовленную кашу – внук горячую не любил. Здесь и пришла ему в голову эта шальная мысль. «Сейчас или никогда», – подбодрил себя Вячеславович. Он отставил кастрюлю в сторону, запустил ложку в стоявшую на столе глубокую тарелку, полную густой массы, и с силой ударил по выступающей наружу рукоятке. Старик увидел то, что и хотел: взмывшую вверх ложку, со звоном упавшую на пол, да описавшие дугу бесформенные комки каши, со смачным чмоканьем шлепнувшиеся и на пол, и на стол, и на стену. Не видел он только выражения глубокой досады, появившегося на его лице от вида этого жалкого зрелища.
«Нет, не вернуть вспять реку времени. Не прыгнуть, взметнувшись, назад – вверх по течению – даже не на годы, а только лишь на день или час, – горестно подумал Сергей Вячеславович. – Вот когда еще были силы, надо было найди присущий собственной натуре поток, окунуться в него с головой и, несмотря на все невзгоды, держаться в нем на плаву, держаться, невзирая ни на что, если бы я хотел оставить в этой жизни свой след».
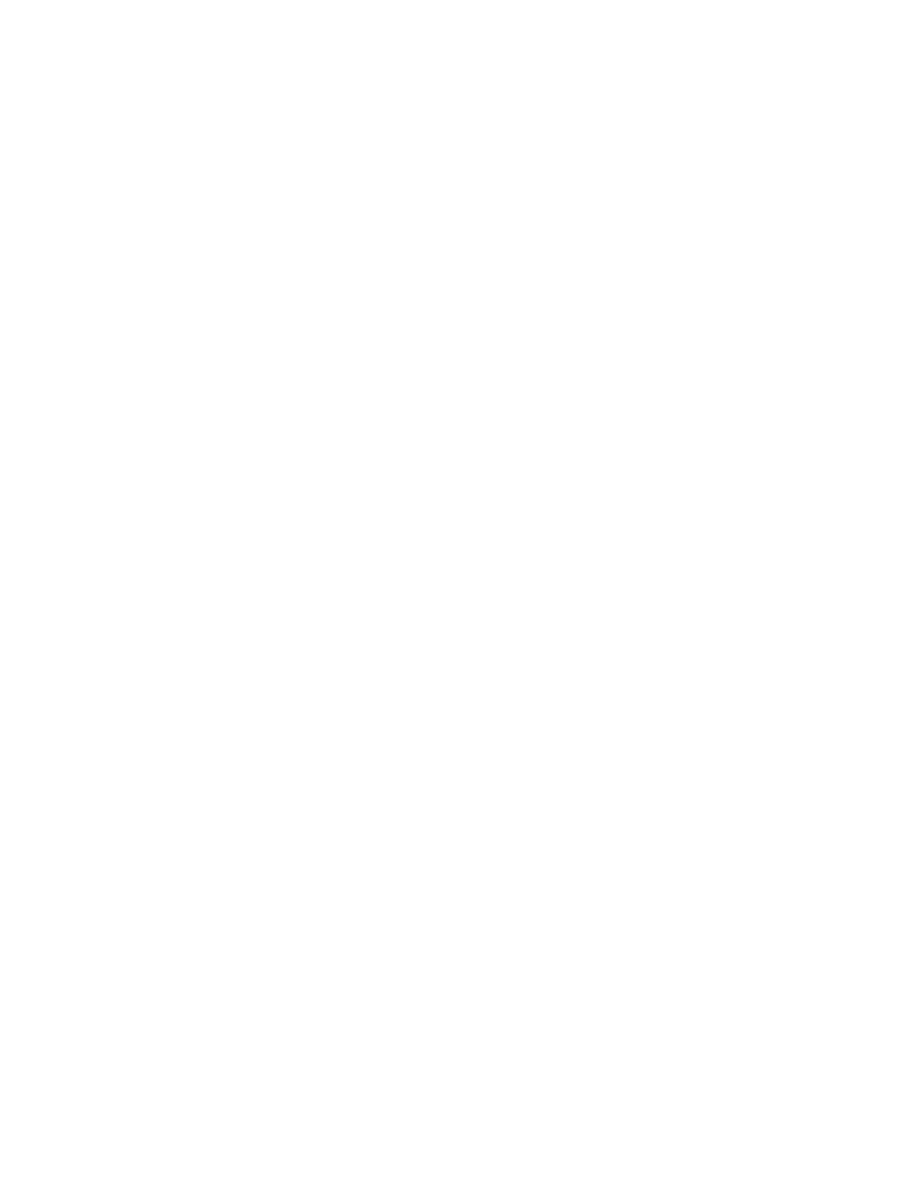
Наталья КАЛИНИНА
Родилась и живу в Вологде. По образованию экономист. Работала в банковской сфере с 1996г., и завершила карьеру в апреле 2024г. в должности заместителя управляющего. Свой первый роман «Только вперёд» написала в 2006 г. В 2007-2009гг. появились на свет ещё два: «Ну, почему так?», «Может, это любовь?» В мае 2023г. участвовала на площадке Литрес в конкурсе «Любовь между строк» с новым романом «На перекрёстке миров», который попал в лонг-лист. В августе 2023г. закончила работу над романом «Будущее впереди».
В октябре 2023г. принимала участие в конкурсе «КНИГАсветное путешествие» в номинации «Курортный роман-любовный роман» с романом «В жизни случается всё» на площадке Литрес. Роман вошёл в шорт-лист. В марте 2024 г. завершен роман с азиатским сеттингом «Закрой дверь в прошлое, и наступит будущее». Был опубликован в июле 2024 г. через издательство «Четыре» на Литрес. Сейчас активно принимаю участие в различных проектах, конкурсах и сборниках.
Родилась и живу в Вологде. По образованию экономист. Работала в банковской сфере с 1996г., и завершила карьеру в апреле 2024г. в должности заместителя управляющего. Свой первый роман «Только вперёд» написала в 2006 г. В 2007-2009гг. появились на свет ещё два: «Ну, почему так?», «Может, это любовь?» В мае 2023г. участвовала на площадке Литрес в конкурсе «Любовь между строк» с новым романом «На перекрёстке миров», который попал в лонг-лист. В августе 2023г. закончила работу над романом «Будущее впереди».
В октябре 2023г. принимала участие в конкурсе «КНИГАсветное путешествие» в номинации «Курортный роман-любовный роман» с романом «В жизни случается всё» на площадке Литрес. Роман вошёл в шорт-лист. В марте 2024 г. завершен роман с азиатским сеттингом «Закрой дверь в прошлое, и наступит будущее». Был опубликован в июле 2024 г. через издательство «Четыре» на Литрес. Сейчас активно принимаю участие в различных проектах, конкурсах и сборниках.
ВЕХИ СУДЬБЫ
Домой вернулась расстроенная, потому что в очередной раз не смогла отстоять своё мнение перед шефом. Тамара не понимала его инновационного подхода к распределению обязанностей и зарплаты. Три человека, стоявшие у истоков бизнеса, его роста и текущих достижений, задвигаются в угол. Шеф набирал новых людей на щедрую зарплату и процент от продаж. Им троим такие шикарные условия никогда не предлагали.
Пожаловаться некому. Подруги растворились во времени, родители давно на пенсии, но всё ещё вели трудовую деятельность, председательствуя в двух гаражных кооперативах и ТСЖ в собственном доме. Муж – в другом городе на учёбе, а сын работал в ночную. Мяукающий кот внимательно выслушал Тамарины стенания и, махнув хвостом, потребовал есть.
– Ну да, что тебе до моих проблем, лишь бы погладили и покормили.
Поселившаяся тоска забралась глубже и увеличила площадь.
Избавиться от грустных мыслей раньше помогали любимые песни и танцы, но сейчас просто опустились руки, и хотелось рыдать.
Тамара открыла ноутбук и вошла в свой личный кабинет на HH.RU. Давненько туда не заглядывала, но, видимо, пришло время. Вакансий, которые её бы устроили, не нашлось, поэтому вытащила из архива резюме и пробежалась глазами.
«1996 год. Её первая серьёзная работа в должности кассира в кассе пересчёта. Она тогда заканчивала техникум. До этого подрабатывала в лицее гардеробщицей. От той работы осталось яркое воспоминание несправедливого нагоняя от управляющего.
Работа в кассе заключалась в пересчёте денег на специальной машинке, бандеролении пересчитанных денег и заваривание их в плёнке в вакууме. Через полгода такой работы она поняла, что не может связать двух слов и сильно отупела….
2001 год. Последний курс в университете и встреча с будущим мужем».
Тамара улыбнулась, вспомнив себя молодой двадцатилетней девушкой. Руки сами потянулись к хранившимся в фотоальбоме снимкам. Их первым совместным, с озера. Оба ещё не битые жизнью, пребывающие в розовых мечтах…
«В этот же год в городе произошёл рейдерский захват нескольких организаций, в том числе, где она работала, и ей пришлось искать новую работу.
Через год поженились, въехав в оставленную бабушкой и дедушкой квартиру в старой части города. Эти дома были построены для работающих на подшипниковом заводе. Ранее туда селили молодые семьи, а у кого не было детей, подселяли в двух-трёхкомнатные квартиры. Дом был типа общежития. С момента Перестройки всё изменилось, теперь это был обычный дом, да и от завода осталась пара функционирующих цехов.
У новоиспечённого мужа с работой не складывалось: куда бы ни устроился, у предприятия тут же возникали проблемы с выплатой зарплаты, а несколько и вовсе обанкротились. Одно, правда, продержалось дольше всех, но зарплату выдавало туалетной бумагой. Поэтому бельевой шкаф их однокомнатной квартиры был всегда завален упаковками туалетки, а идя в гости к кому-то, не нужно было ломать голову, что дарить.
Дома в том районе строились по старым стандартам, и если включишь телевизор, люстру и утюг – всё! Ждёшь рассвета в темноте. Хорошо, если муж дома, то заменит перегоревшие пробки.
Жили на пятом этаже. Утром, когда народ собирался на работу, и вечером, когда все возвращались домой, из крана шёл только кипяток. Поэтому в углу на кухне стояла алюминиевая этажерка, укомплектованная полторашками с водой. Бельё стирать приходилось ночью, а сушить – прямо в квартире, потому что козырёк на балконе был совсем крохотным и не спасал от поселившихся под крышей голубей: они где сидят, там и гадят.
2014 год. Чистка банковского сектора. У банка, в котором она работала, отозвали лицензию. Сыну 9 лет. У мужа на работе – смена руководства, и зарплату опустили до прожиточного минимума. За это время они обзавелись машиной, дачей и трёхкомнатной квартирой, но всё благодаря финансированию её родителей. Сами хоть и работали, и подрабатывали, выматываясь, как черти, не могли себе ничего этого позволить. В 2005 родился сын; жили на одну зарплату мужа. Она вспоминала те годы безденежья, когда не могли позволить себе новую одежду или обувь, с содроганием, поэтому, когда её позвали в бюджетную организацию, побежала. Те четыре месяца в аду не забудет никогда. Неизвестная среда, психологическое давление и буллинг со стороны коллектива… Жуть!»
Тамара передёрнула плечами.
«В этом же году устроилась помощником аудитора. Зарплата хорошая, возможность сэкономить на командировочных. Плюшкой шла возможность посмотреть разные города нашей необъятной. Она же всегда мечтала о том, как будет путешествовать.
На сэкономленные командировочные впервые за много лет смогла позволить поездку на море. Счастью не было предела!» Аж слезу выбивало, когда вспомнила, как все вместе ездили на юг.
«После долгих мыканий муж тоже нашёл работу. Но работа была посуточно. Сын остался без контроля и скатился в учёбе. Тамаре пришлось бросить работу. Да и за три года бесконечные разъезды по городам и сёлам поднадоели.
Полгода – никаких приглашений. Апатия. Депрессия. Ощущаю себя никому не нужной и не востребованной.
Оттого, что денег снова стало не хватать, устроилась диспетчером в «Яндекс. Справочник».
2017 год. После собеседования, когда попросили выйти на работу в ближайшие дни, летела.
И вот, спустя 7 лет, вернулась к начальной точке».
Тамара вздохнула, отложила фотки счастливых двадцатилетних молодожёнов в свадебном наряде. Отредактировала резюме, добавив туда ещё две должности, на которых работала, и с обидой поджала губы: чтобы получить то, что она сейчас получает, ей нужно совмещать две должности, разбиваться в лепёшку, разрываться на части, чтобы успеть и тут, и там, а на нового сотрудника будет возлагаться только одна обязанность. Мало того, она должна будет его обучить – это ли не ирония? Собственными руками готовить специалиста, который будет ей подчиняться, но получать зарплату в разы больше?! Для неё это неприемлемо, но ссориться с мстительным шефом, имеющим связи и влияние в их маленьком городке, себе дороже. Последний раз, когда шеф назначал её на новую должность, в договоре указала срок его действия. Она знала, что если укажет «бессрочно», то добровольно он её не отпустит. Ну, а испытать на себе месть, о которой знала не понаслышке, не хотела, поэтому схитрила.
«Впереди – почти год. К этому времени я успею подготовиться…» – на губах Тамары заиграла улыбка, и настроение улучшилось.
Прочитав своё резюме ещё раз, нажала кнопку: «Видно всем».
Домой вернулась расстроенная, потому что в очередной раз не смогла отстоять своё мнение перед шефом. Тамара не понимала его инновационного подхода к распределению обязанностей и зарплаты. Три человека, стоявшие у истоков бизнеса, его роста и текущих достижений, задвигаются в угол. Шеф набирал новых людей на щедрую зарплату и процент от продаж. Им троим такие шикарные условия никогда не предлагали.
Пожаловаться некому. Подруги растворились во времени, родители давно на пенсии, но всё ещё вели трудовую деятельность, председательствуя в двух гаражных кооперативах и ТСЖ в собственном доме. Муж – в другом городе на учёбе, а сын работал в ночную. Мяукающий кот внимательно выслушал Тамарины стенания и, махнув хвостом, потребовал есть.
– Ну да, что тебе до моих проблем, лишь бы погладили и покормили.
Поселившаяся тоска забралась глубже и увеличила площадь.
Избавиться от грустных мыслей раньше помогали любимые песни и танцы, но сейчас просто опустились руки, и хотелось рыдать.
Тамара открыла ноутбук и вошла в свой личный кабинет на HH.RU. Давненько туда не заглядывала, но, видимо, пришло время. Вакансий, которые её бы устроили, не нашлось, поэтому вытащила из архива резюме и пробежалась глазами.
«1996 год. Её первая серьёзная работа в должности кассира в кассе пересчёта. Она тогда заканчивала техникум. До этого подрабатывала в лицее гардеробщицей. От той работы осталось яркое воспоминание несправедливого нагоняя от управляющего.
Работа в кассе заключалась в пересчёте денег на специальной машинке, бандеролении пересчитанных денег и заваривание их в плёнке в вакууме. Через полгода такой работы она поняла, что не может связать двух слов и сильно отупела….
2001 год. Последний курс в университете и встреча с будущим мужем».
Тамара улыбнулась, вспомнив себя молодой двадцатилетней девушкой. Руки сами потянулись к хранившимся в фотоальбоме снимкам. Их первым совместным, с озера. Оба ещё не битые жизнью, пребывающие в розовых мечтах…
«В этот же год в городе произошёл рейдерский захват нескольких организаций, в том числе, где она работала, и ей пришлось искать новую работу.
Через год поженились, въехав в оставленную бабушкой и дедушкой квартиру в старой части города. Эти дома были построены для работающих на подшипниковом заводе. Ранее туда селили молодые семьи, а у кого не было детей, подселяли в двух-трёхкомнатные квартиры. Дом был типа общежития. С момента Перестройки всё изменилось, теперь это был обычный дом, да и от завода осталась пара функционирующих цехов.
У новоиспечённого мужа с работой не складывалось: куда бы ни устроился, у предприятия тут же возникали проблемы с выплатой зарплаты, а несколько и вовсе обанкротились. Одно, правда, продержалось дольше всех, но зарплату выдавало туалетной бумагой. Поэтому бельевой шкаф их однокомнатной квартиры был всегда завален упаковками туалетки, а идя в гости к кому-то, не нужно было ломать голову, что дарить.
Дома в том районе строились по старым стандартам, и если включишь телевизор, люстру и утюг – всё! Ждёшь рассвета в темноте. Хорошо, если муж дома, то заменит перегоревшие пробки.
Жили на пятом этаже. Утром, когда народ собирался на работу, и вечером, когда все возвращались домой, из крана шёл только кипяток. Поэтому в углу на кухне стояла алюминиевая этажерка, укомплектованная полторашками с водой. Бельё стирать приходилось ночью, а сушить – прямо в квартире, потому что козырёк на балконе был совсем крохотным и не спасал от поселившихся под крышей голубей: они где сидят, там и гадят.
2014 год. Чистка банковского сектора. У банка, в котором она работала, отозвали лицензию. Сыну 9 лет. У мужа на работе – смена руководства, и зарплату опустили до прожиточного минимума. За это время они обзавелись машиной, дачей и трёхкомнатной квартирой, но всё благодаря финансированию её родителей. Сами хоть и работали, и подрабатывали, выматываясь, как черти, не могли себе ничего этого позволить. В 2005 родился сын; жили на одну зарплату мужа. Она вспоминала те годы безденежья, когда не могли позволить себе новую одежду или обувь, с содроганием, поэтому, когда её позвали в бюджетную организацию, побежала. Те четыре месяца в аду не забудет никогда. Неизвестная среда, психологическое давление и буллинг со стороны коллектива… Жуть!»
Тамара передёрнула плечами.
«В этом же году устроилась помощником аудитора. Зарплата хорошая, возможность сэкономить на командировочных. Плюшкой шла возможность посмотреть разные города нашей необъятной. Она же всегда мечтала о том, как будет путешествовать.
На сэкономленные командировочные впервые за много лет смогла позволить поездку на море. Счастью не было предела!» Аж слезу выбивало, когда вспомнила, как все вместе ездили на юг.
«После долгих мыканий муж тоже нашёл работу. Но работа была посуточно. Сын остался без контроля и скатился в учёбе. Тамаре пришлось бросить работу. Да и за три года бесконечные разъезды по городам и сёлам поднадоели.
Полгода – никаких приглашений. Апатия. Депрессия. Ощущаю себя никому не нужной и не востребованной.
Оттого, что денег снова стало не хватать, устроилась диспетчером в «Яндекс. Справочник».
2017 год. После собеседования, когда попросили выйти на работу в ближайшие дни, летела.
И вот, спустя 7 лет, вернулась к начальной точке».
Тамара вздохнула, отложила фотки счастливых двадцатилетних молодожёнов в свадебном наряде. Отредактировала резюме, добавив туда ещё две должности, на которых работала, и с обидой поджала губы: чтобы получить то, что она сейчас получает, ей нужно совмещать две должности, разбиваться в лепёшку, разрываться на части, чтобы успеть и тут, и там, а на нового сотрудника будет возлагаться только одна обязанность. Мало того, она должна будет его обучить – это ли не ирония? Собственными руками готовить специалиста, который будет ей подчиняться, но получать зарплату в разы больше?! Для неё это неприемлемо, но ссориться с мстительным шефом, имеющим связи и влияние в их маленьком городке, себе дороже. Последний раз, когда шеф назначал её на новую должность, в договоре указала срок его действия. Она знала, что если укажет «бессрочно», то добровольно он её не отпустит. Ну, а испытать на себе месть, о которой знала не понаслышке, не хотела, поэтому схитрила.
«Впереди – почти год. К этому времени я успею подготовиться…» – на губах Тамары заиграла улыбка, и настроение улучшилось.
Прочитав своё резюме ещё раз, нажала кнопку: «Видно всем».
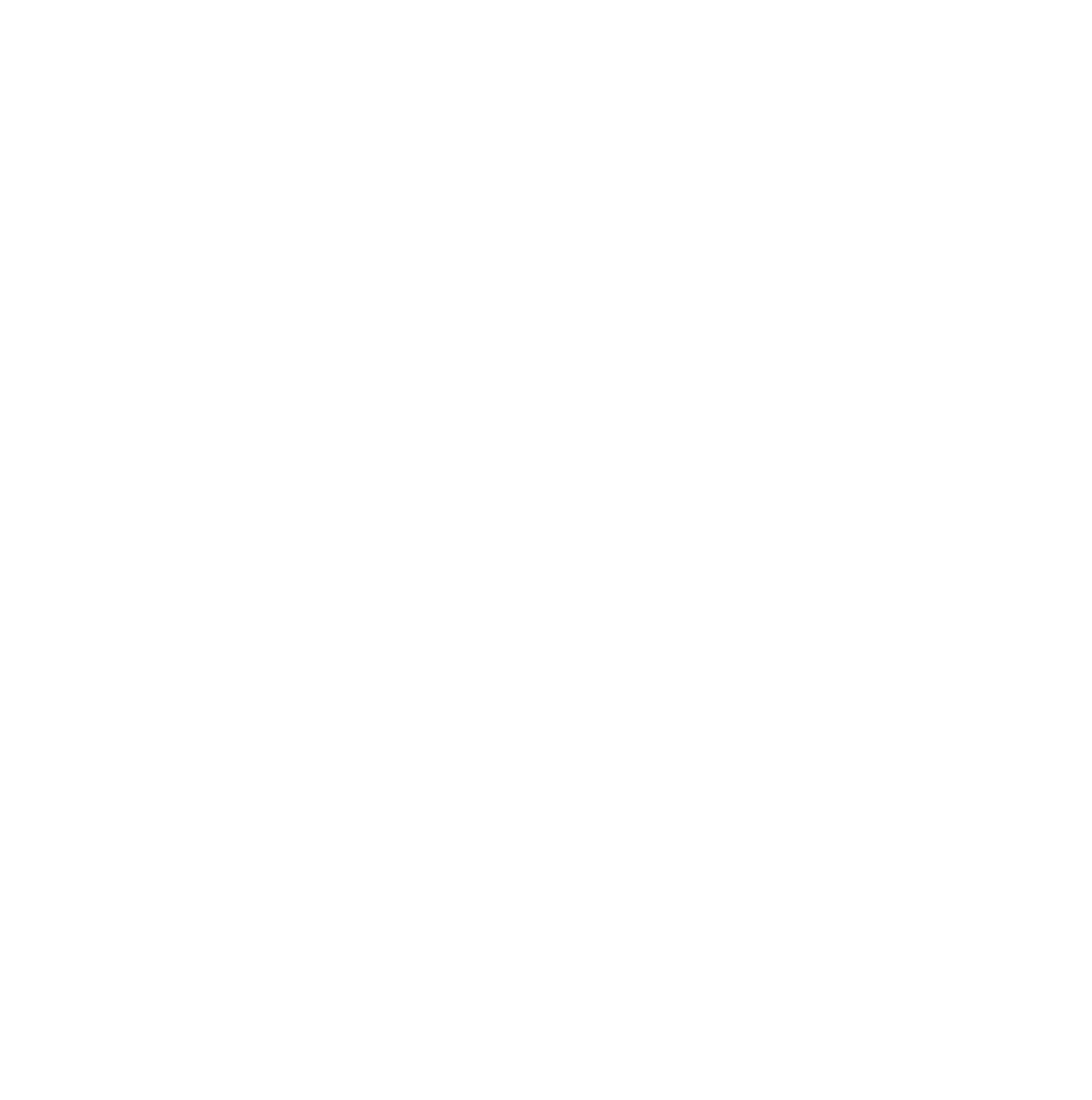
Максим ЛАЗАРЕВ
Родился в 1966 году в Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша». Более 30 публикаций в различных альманахах и сборниках Прозы и Поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных Конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024». Номинант на звание «Писатель года-2024». Номинант на Премию С. Есенина-2024. Номинант на Премию М. Горького «Данко-2024». Номинант на Премию «Георгиевская лента – 2021-2025». Номинант на Премию ФСБ России – 2022-2024.
Родился в 1966 году в Москве. Член Союза Писателей России. Изданные книги: «Волны забытого лета», «Хроника карантина», «Маша». Более 30 публикаций в различных альманахах и сборниках Прозы и Поэзии. Многократный Лауреат Международных и Всероссийских литературных Конкурсов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Победитель Международного конкурса поэзии Итальянской Академии искусств «IL PARNASO ANGELO LA VECCHIA 2024». Номинант на звание «Писатель года-2024». Номинант на Премию С. Есенина-2024. Номинант на Премию М. Горького «Данко-2024». Номинант на Премию «Георгиевская лента – 2021-2025». Номинант на Премию ФСБ России – 2022-2024.
«ПАСХА В КАРАНТИНЕ» или Вспоминая 2020-й год
– Ладно, успокойся. Всё уже, всё. Не обижайся. Я, наверно, тоже лишнего наговорил. Всё. Ну, бывает! Успокойся. Смотри, уже два ночи! Пора бы уже и поспать, – он обнял и поцеловал жену в щёчку. – Иди, я покурю и тоже буду ложиться.
...Страстная пятница встретила мелким снегом вперемешку с дождём, уже становившейся обыденной и от того ещё более страшной статистикой заболевших и молчаливо сидящим на карнизе голубем. И отсутствие где-то заблудившейся весны, и ставший уже почти членом семьи голубь, и привычный бубнёж диктора на экране уже настолько впитались в то, что принято называть уютом и стабильностью, что даже мысли о том, что всё-таки наступит когда-то весна, что когда-нибудь появится и солнце, что всё рано или поздно проходит, уже не успокаивали и не пугали, а просто пролетали через сознание, не оставляя никакого следа. Закончится? Конечно, закончится. Всё вернётся? Конечно, вернётся. Всё будет хорошо? Конечно, будет. Вопрос в другом – когда? А вот на это не мог дать ответа никто из живущих на планете. А раз ответа не существует, то зачем тогда вообще об этом думать. Ведь не думаем же каждый день о том, что в любой момент может взорваться вулкан Йелостоун и похоронить полпланеты. Не думаем. Вот и правильно. А вывод? А вывод один: наслаждайся жизнью сейчас. Вот в этот самый момент. Ведь помимо прогулок по весеннему лесу или субботнего матча «Спартака» есть миллионы книг, которые ты никогда бы не прочитал, есть тысячи фильмов, которые ты никогда бы не посмотрел. Есть, конечно, одна маленькая деталька, разбивающая всю эту конструкцию: деньги. Точнее, их свойство заканчиваться. Но и тут можно подойти философски.
Если ежедневно переживать на тему «где их взять», их всё равно не прибавится. А вот нервных клеток явно убавится. Поэтому, как говорится, будем бороться с геморроем по мере его наступления. Закончив внутренний психотренинг и допив кофе, он достал сигарету и нажал кнопку на пульте, прибавляя звук.
Подборка свежих новостей веселила и поднимала настроение. Такого калейдоскопа патологической тупости и управленческого кретинизма, которое демонстрировало человечество, не снилось ни Салтыкову-Щедрину, ни О,Генри.
Новости из Италии, где Шойгу заливал Бергамо спиртом, почему-то так вывели из себя гомосека и по совместительству президента Франции Макрона. Да так вывели, что он даже обиделся на Россию. Было, правда, непонятно, что послужило причиной обиды. То ли он не мог выдержать такое отношение к спирту со стороны русских, то ли понимая, что дать адекватный ответ у него не получится, так как поливать улицы шампанским или «Бордо» будет не совсем комильфо. Следом за Макроном на экране появился мэр братской могилы с гордым названием Нью-Йорк. Брызжа в камеру слюной с такой силой, что захотелось надеть маску даже по эту сторону экрана, мэр наконец назвал миру виновника эпидемии. Не нужно было обладать фантазией Сальвадора Дали, чтобы догадаться, кто же этот негодяй. Конечно же, этот злодей – Путин! А кто же ещё?! Даже уже как-то странно было бы, если вдруг НЕ Путин. Нет, можно было бы подумать ещё, что это «Петров с Башировым». Но тут всё-таки масштаб – лучшая страна в мире. Конечно, Путин. Мэр рассказал всему миру, что Путин в течение десяти лет внушал американцам, что руки мыть не нужно, что жрать грязными руками хот-доги и бургеры – это правильно. А ещё он внушал через соцсети, что вакцинация – это зло, и всячески не давал строить в Нью-Йорке канализацию и хлорировать воду. Исключительно только поэтому теперь в парке роют братские могилы, а на авианосце заразились две тысячи человек. Уловить связь авианосца и канализации было непросто, и на экране уже появился другой сюжет из Америкоссии. Лучший президент в истории Америки вещал миру, что пик пройден, подтверждая это убийственной статистикой – всего две тысячи трупов вместо трёх за сутки. Поэтому он считает, что пора возобновить чемпионат по бейсболу, а то даже ему нечем заняться вечерами. Блок новостей с просторов Родины подкупал разнообразием. Сначала для демонстрации уверенных действий московской полиции по борьбе с нарушителями самоизоляции был показан сюжет, где трое полисменов, не жалея собственного здоровья, задержали бомжа и выписали ему штраф за нарушение самоизоляции. В сюжете, правда, не объяснили, каким образом этот бомж нарушил режим. То ли вылез и далеко отошёл от мусорного бака, то ли перебрался из коробки от холодильника в коробку от телевизора, но бдительность правоохранителей внушала уверенность. Тем более, что и мягкая бумажка штрафного протокола, без сомнения, пригодится нарушителю. Далее москвичам было сообщено, что общественные туалеты как рассадники заморской заразы временно тоже закрыты. При этом почему-то не объясняли, что же делать в случае, если вдруг приспичит. Ну, например, полицейским или врачам. Или теперь и на памперсах решили заработать, как на масках? Полностью изучив ситуацию на фронтах битвы с пандемией, он выключил телевизор. Впереди был день и много дел…
Они готовились к Пасхе. Жена испекла кулич, он замариновал мясо, потом долго красили яйца, раскладывая их на большое круглое блюдо вокруг кулича. Всё было, КАК ВСЕГДА. И вот это «как всегда», наверно, было главным. И не хотелось думать, что совсем даже «не как всегда», а точнее, совсем не так, как всегда. И кулич будет не освящён. И впервые не будет за семейным пасхальным столом сына, соблюдающего изоляцию отдельно у себя дома. Что не будет воскресного похода в церковь. Что даже служба сама будет впервые за всю историю христианства без верующих. Все эти мысли отгонялись и усилием воли уничтожались здоровой частью сознания, которому просто хотелось, чтобы было, КАК ВСЕГДА. И, наверно, всё бы и было так, но, как часто бывает, случится какая-то нелепость в самый неподходящий момент, и закрутится другая пластинка, превращая приятно текущий день, напоенный предвкушением светлого праздника, в чехарду банальных, бестолковых, очень нервных и дурацких поступков.
Вот уже двадцать семь лет через несколько дней, как они вместе с женой отмечают вместе все праздники, а значит, уже двадцать семь лет, как жена делает определённые годами вещи. Уже давно не задумываясь и не замечая. Что произошло вчера, она не могла объяснить спустя даже сутки. Как произошёл этот сбой в матрице? Почему? Но случилось то, что случилось. Жена взяла шестилитровую кастрюлю с луковой шелухой, уже разбухшей, впитавшей воду и превратившей её в краску, и зачем-то вывалила всё это в унитаз. И, нажимая кнопку спуска, она уже в эту секунду сама поняла, что наделала, и громко вскрикнула:
– Нет! Зачем?!
Но дело было сделано, и поток потащил в глубину красно-коричневую массу, засоряя слив в трубе и превращая тихий вечер в чрезвычайную ситуацию квартирного масштаба. Её крик раненой самки тираннозавра, пробежав мурашками у него по спине, заставил его подпрыгнуть со стула и в два прыжка долететь до туалета.
– Что случилось?!
– Дура. Идиотка. Дебилка, – со слезами на глазах проговорила жена.
Проследив её наполненный ужасом и слезами взгляд, устремлённый в направлении унитаза, он тоже онемел на секунду, а потом выдал долгую тираду, которую Леонид Гайдай охарактеризовал, как «далее следует монолог из непереводимых местных идиоматических выражений».
Видя, в каком ступоре находится жена, он прокричал:
– Воду собирай! Сейчас ещё и сосед снизу обрадуется твоей затее!
То ли безупречное владение им той частью великого русского языка, с помощью которой в России выигрывают войны и перекрывают Енисей, то ли упоминание о соседе, но жена вышла из ступора и бросилась изо всех сил бороться с рукотворной стихией. Борьба была долгой. Перепробовав всё, что вбито в голову советского человека, от троса до кипятка с уксусом и содой, мокрые и почти отчаявшиеся, они пришли к выводу, что остаётся одно – снимать унитаз. И делать это нужно самим. Так как попытка вызвать аварийку и сантехника окончилась провалом. Диспетчер, явно перебравший с приёмом вовнутрь отечественного антисептика, заявил, что сантехник не придет. В связи с режимом самоизоляции он тоже работает удалённо и может только проконсультировать по телефону. Перекурив и тоже приняв допинг для смелости, они приступили к демонтажу ставшей угрозой конструкции. Размеры туалета не гармонировали с размером его тела и явно не способствовали быстрой победе. Но, тем не менее, через два часа всё было кончено. Унитаз снят, труба прочищена, а унитаз установлен на свое гордое историческое место. Уставшие, но абсолютно счастливые, они сидели на кухне. Он курил и думал.
– Как всё-таки смешно и в то же время правильно устроен мир. Начал ты размышлять над его устройством? Задаваться умными вопросами бытия? На тебе! Иди вон, говно откачивай и молчи себе в трубочку, – он рассмеялся. – Пошли спать, дорогая. Сегодня был долгий вечер.
После вымотавших и морально, и физически событий прошедшей ночи проснулись они поздно. Долго принимали душ, неторопливо завтракали. Напоенная ароматом свежеиспечённых куличей и вкусного гватемальского кофе, атмосфера кухни окутывала и погружала в приятную сладкую ленивость, которая всегда наступает после боя, тяжёлой, но выполненной работы или выигранного спортивного матча. Жена, окончательно пришедшая в себя, думая о чем-то своём, неторопливо пила кофе, по чуть-чуть откусывая от горячего бутерброда, и иногда улыбалась своим мыслям, не то смеясь над тем, что устроила сама, не то вспоминая все перипетии ночной битвы за чистоту. Он налил вторую чашку и закурил.
– Вспоминаешь приключения? – он тоже улыбнулся и продолжил. – Всё-таки смотри, как интересно устроен человек. Час назад он думает, что случилась беда, а спустя два смеётся сам над собой и сделанной им же самим глупостью. И это здорово. Тот, кто может смеяться над самим собой, только и может что-то сделать в этой жизни. А вообще давай завязывай с воспоминаниями. Я потом Серёжке расскажу, вот тогда и посмеёмся все вместе. А сейчас давай вернёмся в реальность. Праздник-то какой сегодня! Это ведь праздник, как никогда важный для того, что сейчас творится, для всей этой хрени вокруг нас. Он сейчас просто необходим. Необходим, как воздух! Это же праздник надежды и веры. И веры не только в Христа и его Воскресение, точнее, не только этой веры. А веры в большом смысле! Веры, как того, без чего нельзя вообще жить! Веры в правду, в добро, в жизнь. Веры, как чувства, без которого человек перестает быть человеком. Ведь вера и делает человека человеком. Вера в правду, вера в семью и свои корни, вера в страну, вера в самого себя. То есть получается, что вера и есть сама жизнь. Это слова-синонимы. И если бы я писал речь для патриарха, я именно об этом бы и говорил. А сейчас давай заканчивать завтрак. Давай потрудимся. На тебе – салат, на мне – мясо, – он улыбнулся и встал.
В огромной стране заканчивались последние приготовления к светлому празднику. Накрывались столы, зажигались свечи и лампады. Уже надевали праздничные одежды архиереи, и выносили хоругви протодьяконы. А где-то в далёком Петропавловске-Камчатском, почти на другой стороне земного шарика уже поднялся на колокольню звонарь и, перекрестившись, потянул верёвки колоколов. И сначала басовито и приглушённо, а потом всё выше и звонче, расцветая и расплываясь многоголосьем в гулкой тишине, поплыл над Великой Россией Благовест…
Солнце заливало квартиру светом, будто вдруг вспомнив, что хотя бы в праздник нужно поработать и всё-таки вернуть городу, скованному карантином, настоящую весну. Из раскрытого настежь окна вливался хотя ещё и стылый, но уже напоенный особым весеннем запахом воздух. Настоящий апрельский воздух! Такой, каким он был в детстве. Когда невозможно усидеть дома, а нужно было непременно бежать на ещё не до конца просохшую площадку и с упоением играть в первый после зимы футбол, а потом гнать на велике к пруду ловить тритонов... Или поехать с дедом за город, в Опалиху, за берёзовым соком. И потом у маленького костерка слушать дедовы истории про войну или про детство в деревне. И пока дед медленно, с расстановкой и очень смачно допивал чекушку, самому с жадностью поглощать поджаренный дочерна на костре хлеб... Вспомнилось, как они любили с другом Лёнькой ездить на этюды в эти дни. В тёмных ельниках ещё лежал снег, а на пригорках уже цвели подснежники и распускалась мать-и-мачеха. Они быстро, на время писали по короткому этюду, а потом спешили в Москву, чтобы где-нибудь в Останкинском парке выпить с друзьями портвейна. Всплыла первая после дембеля весна и вот точно такой же день. И то забытое ощущение, что вся жизнь – впереди, и не убиваемым казалось ничем и никогда чувство предстоящего счастья... Защемило в груди. Увлажнились глаза. Надо успокоиться: всё хорошо.
– Чего это я развспоминался?! Это всё весна виновата! Весной всегда так. На то она и весна! Скоро девчонки короткие юбки наденут, скворцы прилетят, сирень зацветёт… Нет, надо всё-таки сваливать на дачу.
В кухню вошла жена.
– Дорогой, всё накрыла. Пойдём, – она улыбалась. – Сейчас включим видеотрансляцию и будем отмечать вместе с Серёжкой!
– Умница. Так и надо сделать. А потом будем звонить и всех поздравлять! Маму, тёщу. В Севастополь, во Владивосток, в Новосибирск, в Саратов, в Тамбов. Да всем позвоним! Пойдём!
Водружая графин в середину стола, Максим улыбнулся жене и уверенно произнес:
– Будем жить, любимая! Христос Воскресе!
– Ладно, успокойся. Всё уже, всё. Не обижайся. Я, наверно, тоже лишнего наговорил. Всё. Ну, бывает! Успокойся. Смотри, уже два ночи! Пора бы уже и поспать, – он обнял и поцеловал жену в щёчку. – Иди, я покурю и тоже буду ложиться.
...Страстная пятница встретила мелким снегом вперемешку с дождём, уже становившейся обыденной и от того ещё более страшной статистикой заболевших и молчаливо сидящим на карнизе голубем. И отсутствие где-то заблудившейся весны, и ставший уже почти членом семьи голубь, и привычный бубнёж диктора на экране уже настолько впитались в то, что принято называть уютом и стабильностью, что даже мысли о том, что всё-таки наступит когда-то весна, что когда-нибудь появится и солнце, что всё рано или поздно проходит, уже не успокаивали и не пугали, а просто пролетали через сознание, не оставляя никакого следа. Закончится? Конечно, закончится. Всё вернётся? Конечно, вернётся. Всё будет хорошо? Конечно, будет. Вопрос в другом – когда? А вот на это не мог дать ответа никто из живущих на планете. А раз ответа не существует, то зачем тогда вообще об этом думать. Ведь не думаем же каждый день о том, что в любой момент может взорваться вулкан Йелостоун и похоронить полпланеты. Не думаем. Вот и правильно. А вывод? А вывод один: наслаждайся жизнью сейчас. Вот в этот самый момент. Ведь помимо прогулок по весеннему лесу или субботнего матча «Спартака» есть миллионы книг, которые ты никогда бы не прочитал, есть тысячи фильмов, которые ты никогда бы не посмотрел. Есть, конечно, одна маленькая деталька, разбивающая всю эту конструкцию: деньги. Точнее, их свойство заканчиваться. Но и тут можно подойти философски.
Если ежедневно переживать на тему «где их взять», их всё равно не прибавится. А вот нервных клеток явно убавится. Поэтому, как говорится, будем бороться с геморроем по мере его наступления. Закончив внутренний психотренинг и допив кофе, он достал сигарету и нажал кнопку на пульте, прибавляя звук.
Подборка свежих новостей веселила и поднимала настроение. Такого калейдоскопа патологической тупости и управленческого кретинизма, которое демонстрировало человечество, не снилось ни Салтыкову-Щедрину, ни О,Генри.
Новости из Италии, где Шойгу заливал Бергамо спиртом, почему-то так вывели из себя гомосека и по совместительству президента Франции Макрона. Да так вывели, что он даже обиделся на Россию. Было, правда, непонятно, что послужило причиной обиды. То ли он не мог выдержать такое отношение к спирту со стороны русских, то ли понимая, что дать адекватный ответ у него не получится, так как поливать улицы шампанским или «Бордо» будет не совсем комильфо. Следом за Макроном на экране появился мэр братской могилы с гордым названием Нью-Йорк. Брызжа в камеру слюной с такой силой, что захотелось надеть маску даже по эту сторону экрана, мэр наконец назвал миру виновника эпидемии. Не нужно было обладать фантазией Сальвадора Дали, чтобы догадаться, кто же этот негодяй. Конечно же, этот злодей – Путин! А кто же ещё?! Даже уже как-то странно было бы, если вдруг НЕ Путин. Нет, можно было бы подумать ещё, что это «Петров с Башировым». Но тут всё-таки масштаб – лучшая страна в мире. Конечно, Путин. Мэр рассказал всему миру, что Путин в течение десяти лет внушал американцам, что руки мыть не нужно, что жрать грязными руками хот-доги и бургеры – это правильно. А ещё он внушал через соцсети, что вакцинация – это зло, и всячески не давал строить в Нью-Йорке канализацию и хлорировать воду. Исключительно только поэтому теперь в парке роют братские могилы, а на авианосце заразились две тысячи человек. Уловить связь авианосца и канализации было непросто, и на экране уже появился другой сюжет из Америкоссии. Лучший президент в истории Америки вещал миру, что пик пройден, подтверждая это убийственной статистикой – всего две тысячи трупов вместо трёх за сутки. Поэтому он считает, что пора возобновить чемпионат по бейсболу, а то даже ему нечем заняться вечерами. Блок новостей с просторов Родины подкупал разнообразием. Сначала для демонстрации уверенных действий московской полиции по борьбе с нарушителями самоизоляции был показан сюжет, где трое полисменов, не жалея собственного здоровья, задержали бомжа и выписали ему штраф за нарушение самоизоляции. В сюжете, правда, не объяснили, каким образом этот бомж нарушил режим. То ли вылез и далеко отошёл от мусорного бака, то ли перебрался из коробки от холодильника в коробку от телевизора, но бдительность правоохранителей внушала уверенность. Тем более, что и мягкая бумажка штрафного протокола, без сомнения, пригодится нарушителю. Далее москвичам было сообщено, что общественные туалеты как рассадники заморской заразы временно тоже закрыты. При этом почему-то не объясняли, что же делать в случае, если вдруг приспичит. Ну, например, полицейским или врачам. Или теперь и на памперсах решили заработать, как на масках? Полностью изучив ситуацию на фронтах битвы с пандемией, он выключил телевизор. Впереди был день и много дел…
Они готовились к Пасхе. Жена испекла кулич, он замариновал мясо, потом долго красили яйца, раскладывая их на большое круглое блюдо вокруг кулича. Всё было, КАК ВСЕГДА. И вот это «как всегда», наверно, было главным. И не хотелось думать, что совсем даже «не как всегда», а точнее, совсем не так, как всегда. И кулич будет не освящён. И впервые не будет за семейным пасхальным столом сына, соблюдающего изоляцию отдельно у себя дома. Что не будет воскресного похода в церковь. Что даже служба сама будет впервые за всю историю христианства без верующих. Все эти мысли отгонялись и усилием воли уничтожались здоровой частью сознания, которому просто хотелось, чтобы было, КАК ВСЕГДА. И, наверно, всё бы и было так, но, как часто бывает, случится какая-то нелепость в самый неподходящий момент, и закрутится другая пластинка, превращая приятно текущий день, напоенный предвкушением светлого праздника, в чехарду банальных, бестолковых, очень нервных и дурацких поступков.
Вот уже двадцать семь лет через несколько дней, как они вместе с женой отмечают вместе все праздники, а значит, уже двадцать семь лет, как жена делает определённые годами вещи. Уже давно не задумываясь и не замечая. Что произошло вчера, она не могла объяснить спустя даже сутки. Как произошёл этот сбой в матрице? Почему? Но случилось то, что случилось. Жена взяла шестилитровую кастрюлю с луковой шелухой, уже разбухшей, впитавшей воду и превратившей её в краску, и зачем-то вывалила всё это в унитаз. И, нажимая кнопку спуска, она уже в эту секунду сама поняла, что наделала, и громко вскрикнула:
– Нет! Зачем?!
Но дело было сделано, и поток потащил в глубину красно-коричневую массу, засоряя слив в трубе и превращая тихий вечер в чрезвычайную ситуацию квартирного масштаба. Её крик раненой самки тираннозавра, пробежав мурашками у него по спине, заставил его подпрыгнуть со стула и в два прыжка долететь до туалета.
– Что случилось?!
– Дура. Идиотка. Дебилка, – со слезами на глазах проговорила жена.
Проследив её наполненный ужасом и слезами взгляд, устремлённый в направлении унитаза, он тоже онемел на секунду, а потом выдал долгую тираду, которую Леонид Гайдай охарактеризовал, как «далее следует монолог из непереводимых местных идиоматических выражений».
Видя, в каком ступоре находится жена, он прокричал:
– Воду собирай! Сейчас ещё и сосед снизу обрадуется твоей затее!
То ли безупречное владение им той частью великого русского языка, с помощью которой в России выигрывают войны и перекрывают Енисей, то ли упоминание о соседе, но жена вышла из ступора и бросилась изо всех сил бороться с рукотворной стихией. Борьба была долгой. Перепробовав всё, что вбито в голову советского человека, от троса до кипятка с уксусом и содой, мокрые и почти отчаявшиеся, они пришли к выводу, что остаётся одно – снимать унитаз. И делать это нужно самим. Так как попытка вызвать аварийку и сантехника окончилась провалом. Диспетчер, явно перебравший с приёмом вовнутрь отечественного антисептика, заявил, что сантехник не придет. В связи с режимом самоизоляции он тоже работает удалённо и может только проконсультировать по телефону. Перекурив и тоже приняв допинг для смелости, они приступили к демонтажу ставшей угрозой конструкции. Размеры туалета не гармонировали с размером его тела и явно не способствовали быстрой победе. Но, тем не менее, через два часа всё было кончено. Унитаз снят, труба прочищена, а унитаз установлен на свое гордое историческое место. Уставшие, но абсолютно счастливые, они сидели на кухне. Он курил и думал.
– Как всё-таки смешно и в то же время правильно устроен мир. Начал ты размышлять над его устройством? Задаваться умными вопросами бытия? На тебе! Иди вон, говно откачивай и молчи себе в трубочку, – он рассмеялся. – Пошли спать, дорогая. Сегодня был долгий вечер.
После вымотавших и морально, и физически событий прошедшей ночи проснулись они поздно. Долго принимали душ, неторопливо завтракали. Напоенная ароматом свежеиспечённых куличей и вкусного гватемальского кофе, атмосфера кухни окутывала и погружала в приятную сладкую ленивость, которая всегда наступает после боя, тяжёлой, но выполненной работы или выигранного спортивного матча. Жена, окончательно пришедшая в себя, думая о чем-то своём, неторопливо пила кофе, по чуть-чуть откусывая от горячего бутерброда, и иногда улыбалась своим мыслям, не то смеясь над тем, что устроила сама, не то вспоминая все перипетии ночной битвы за чистоту. Он налил вторую чашку и закурил.
– Вспоминаешь приключения? – он тоже улыбнулся и продолжил. – Всё-таки смотри, как интересно устроен человек. Час назад он думает, что случилась беда, а спустя два смеётся сам над собой и сделанной им же самим глупостью. И это здорово. Тот, кто может смеяться над самим собой, только и может что-то сделать в этой жизни. А вообще давай завязывай с воспоминаниями. Я потом Серёжке расскажу, вот тогда и посмеёмся все вместе. А сейчас давай вернёмся в реальность. Праздник-то какой сегодня! Это ведь праздник, как никогда важный для того, что сейчас творится, для всей этой хрени вокруг нас. Он сейчас просто необходим. Необходим, как воздух! Это же праздник надежды и веры. И веры не только в Христа и его Воскресение, точнее, не только этой веры. А веры в большом смысле! Веры, как того, без чего нельзя вообще жить! Веры в правду, в добро, в жизнь. Веры, как чувства, без которого человек перестает быть человеком. Ведь вера и делает человека человеком. Вера в правду, вера в семью и свои корни, вера в страну, вера в самого себя. То есть получается, что вера и есть сама жизнь. Это слова-синонимы. И если бы я писал речь для патриарха, я именно об этом бы и говорил. А сейчас давай заканчивать завтрак. Давай потрудимся. На тебе – салат, на мне – мясо, – он улыбнулся и встал.
В огромной стране заканчивались последние приготовления к светлому празднику. Накрывались столы, зажигались свечи и лампады. Уже надевали праздничные одежды архиереи, и выносили хоругви протодьяконы. А где-то в далёком Петропавловске-Камчатском, почти на другой стороне земного шарика уже поднялся на колокольню звонарь и, перекрестившись, потянул верёвки колоколов. И сначала басовито и приглушённо, а потом всё выше и звонче, расцветая и расплываясь многоголосьем в гулкой тишине, поплыл над Великой Россией Благовест…
Солнце заливало квартиру светом, будто вдруг вспомнив, что хотя бы в праздник нужно поработать и всё-таки вернуть городу, скованному карантином, настоящую весну. Из раскрытого настежь окна вливался хотя ещё и стылый, но уже напоенный особым весеннем запахом воздух. Настоящий апрельский воздух! Такой, каким он был в детстве. Когда невозможно усидеть дома, а нужно было непременно бежать на ещё не до конца просохшую площадку и с упоением играть в первый после зимы футбол, а потом гнать на велике к пруду ловить тритонов... Или поехать с дедом за город, в Опалиху, за берёзовым соком. И потом у маленького костерка слушать дедовы истории про войну или про детство в деревне. И пока дед медленно, с расстановкой и очень смачно допивал чекушку, самому с жадностью поглощать поджаренный дочерна на костре хлеб... Вспомнилось, как они любили с другом Лёнькой ездить на этюды в эти дни. В тёмных ельниках ещё лежал снег, а на пригорках уже цвели подснежники и распускалась мать-и-мачеха. Они быстро, на время писали по короткому этюду, а потом спешили в Москву, чтобы где-нибудь в Останкинском парке выпить с друзьями портвейна. Всплыла первая после дембеля весна и вот точно такой же день. И то забытое ощущение, что вся жизнь – впереди, и не убиваемым казалось ничем и никогда чувство предстоящего счастья... Защемило в груди. Увлажнились глаза. Надо успокоиться: всё хорошо.
– Чего это я развспоминался?! Это всё весна виновата! Весной всегда так. На то она и весна! Скоро девчонки короткие юбки наденут, скворцы прилетят, сирень зацветёт… Нет, надо всё-таки сваливать на дачу.
В кухню вошла жена.
– Дорогой, всё накрыла. Пойдём, – она улыбалась. – Сейчас включим видеотрансляцию и будем отмечать вместе с Серёжкой!
– Умница. Так и надо сделать. А потом будем звонить и всех поздравлять! Маму, тёщу. В Севастополь, во Владивосток, в Новосибирск, в Саратов, в Тамбов. Да всем позвоним! Пойдём!
Водружая графин в середину стола, Максим улыбнулся жене и уверенно произнес:
– Будем жить, любимая! Христос Воскресе!

Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ
Родился в г. Курске в 1960 году.
В 1978 г. окончил среднюю школу № 2
г. Кимры. 1979-1981 годы – служба в рядах ВС СССР. В 1980 г. уехал в Ленинград, где прожил 8 лет.
В течение этого времени успешно учился в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на двух факультетах поочередно (ныне Художественно-Промышленная Академия им. Штиглица). Профессиональный живописец и график. Однако в последнее время решил отдать предпочтение занятию литературой. Считает «слово» более живым и сильным средством, чем кисти и холсты.
Родился в г. Курске в 1960 году.
В 1978 г. окончил среднюю школу № 2
г. Кимры. 1979-1981 годы – служба в рядах ВС СССР. В 1980 г. уехал в Ленинград, где прожил 8 лет.
В течение этого времени успешно учился в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на двух факультетах поочередно (ныне Художественно-Промышленная Академия им. Штиглица). Профессиональный живописец и график. Однако в последнее время решил отдать предпочтение занятию литературой. Считает «слово» более живым и сильным средством, чем кисти и холсты.
СМЕРТЬ ПРИЛЕТЕЛА НА КРЫЛЬЯХ С БЕЛЫМИ КРЕСТАМИ
Женщина бежала по полю.
Позади – искореженные, разбитые в щепки вагоны и разорванные тела людей…
Рыжее пламя и черный дым.
Алая кровь смешалась с землей.
Смерть прилетела с неба на крыльях с белыми крестами, не насытилась обильной жатвой, заметила убегающую женщину и тенью скользнула за ней.
Желтые, синие и лиловые травы оказались слишком высокими, чтобы бежать в них быстро, но недостаточно высокими, чтобы укрыться в них.
Самолет догнал женщину, и пули веером скосили траву…
Немец пролетел так низко, что ударом воздуха сорвал платок с головы женщины и сбил ее с ног…
Первый заход не удался. Юнкерс лег на крыло и пошел на круг…
И пока немец разворачивал самолет, смерть на шаг отступила. Заросли чертополоха раздирали в кровь босые ноги бегущей женщины.
И снова смерть накрыла ее крестообразной тенью…
Женщина упала. Она хотела притвориться мертвой, но страх поднял ее и заставил бежать. Пули срезали траву, вонзались в землю, разгоняя бурыми фонтанами пыль…
Когда немец уходил на очередной круг, женщина падала и вжималась в землю.
– Беги!..
И она побежала… навстречу самолету.
Как хорошо она придумала – бежать смерти навстречу…
«Сейчас все произойдет быстро. Вот прямо сейчас все и закончится…»
Женщина споткнулась, рухнула без сил и перевернулась на спину…
«Вот он…»
За стеклом самолета она увидела молодое лицо.
И немец поймал ее взгляд. Губы его растянулись в улыбке.
Он больше не стрелял. У него патроны закончились.
Немец махнул рукой, потянул на себя штурвал и растворился в небесной тверди, нашпигованной свинцом и железом.
По лицу женщины текли слезы. Она плакала от бессилия, плакала оттого, что осталась жива…
В руке своей она обнаружила тушку кролика. Пальцы не разжимались. Она так и бегала от пуль с копченым кроликом, которого купила на станции…
Мою бабушку звали Элеонора. Это за ней охотился немец в поле. Несгибаемая сталинистка, вдова офицера, погибшего в первые дни войны, она великолепно стреляла из самозарядной «Светки». Выполнив нормативы Ворошиловского стрелка второй степени, она готовилась уйти на фронт снайпером…
Упор – лежа, локти в землю вросли, выдох… Сердце отсчитывает время без воздуха.
– Одна, две, три… Стрелять лучше на пятой секунде.
Мушка ловит ненавистную физиономию немецкого летчика… Палец жмет на курок, и пулю за пулей посылает она в перекрестие мишени.
Элеонора никогда не промахивалась.
Не смогла она приблизить Победу с винтовкой в руках.
Дети не отпустили ее от себя. Сыновья семи и девяти лет.
Послесловие
Того летуна люфтваффе или другого такого же охотника до человечьей крови карма настигла спустя три месяца. Но я все же думаю, что именно того самого, что расстреливал в поле Элеонору.
В октябре сорок первого другая женщина-подполковник медслужбы застрелила немецкого летчика.
Та женщина-подполковник сопровождала состав с ранеными красноармейцами, когда налетел «Юнкерс» и накрыл поезд бомбами…
Сбросив бомбы, немец долго кружил над горящей землей и расстреливал раненых.
Те, что выжили, навсегда запомнили то лицо и гадостную улыбку за стеклом кабины самолета.
Ночью в госпиталь привезли сбитого немецкого летчика.
Женщина-подполковник узнала его и приговорила без суда и следствия к высшей мере. Будучи при оружии, она привела приговор в исполнение той же ночью.
Пуля – в лоб, через подушку.
Давний товарищ мой, внук женщины, спровадившей в ад немецкого летчика, рассказал мне, как это было.
Рассказал совсем недавно, два года назад.
История моей бабушки наконец получила законный и в высшей степени справедливый финал.
И я точно знаю, что Элеонора была бы удовлетворена.
Женщина бежала по полю.
Позади – искореженные, разбитые в щепки вагоны и разорванные тела людей…
Рыжее пламя и черный дым.
Алая кровь смешалась с землей.
Смерть прилетела с неба на крыльях с белыми крестами, не насытилась обильной жатвой, заметила убегающую женщину и тенью скользнула за ней.
Желтые, синие и лиловые травы оказались слишком высокими, чтобы бежать в них быстро, но недостаточно высокими, чтобы укрыться в них.
Самолет догнал женщину, и пули веером скосили траву…
Немец пролетел так низко, что ударом воздуха сорвал платок с головы женщины и сбил ее с ног…
Первый заход не удался. Юнкерс лег на крыло и пошел на круг…
И пока немец разворачивал самолет, смерть на шаг отступила. Заросли чертополоха раздирали в кровь босые ноги бегущей женщины.
И снова смерть накрыла ее крестообразной тенью…
Женщина упала. Она хотела притвориться мертвой, но страх поднял ее и заставил бежать. Пули срезали траву, вонзались в землю, разгоняя бурыми фонтанами пыль…
Когда немец уходил на очередной круг, женщина падала и вжималась в землю.
– Беги!..
И она побежала… навстречу самолету.
Как хорошо она придумала – бежать смерти навстречу…
«Сейчас все произойдет быстро. Вот прямо сейчас все и закончится…»
Женщина споткнулась, рухнула без сил и перевернулась на спину…
«Вот он…»
За стеклом самолета она увидела молодое лицо.
И немец поймал ее взгляд. Губы его растянулись в улыбке.
Он больше не стрелял. У него патроны закончились.
Немец махнул рукой, потянул на себя штурвал и растворился в небесной тверди, нашпигованной свинцом и железом.
По лицу женщины текли слезы. Она плакала от бессилия, плакала оттого, что осталась жива…
В руке своей она обнаружила тушку кролика. Пальцы не разжимались. Она так и бегала от пуль с копченым кроликом, которого купила на станции…
Мою бабушку звали Элеонора. Это за ней охотился немец в поле. Несгибаемая сталинистка, вдова офицера, погибшего в первые дни войны, она великолепно стреляла из самозарядной «Светки». Выполнив нормативы Ворошиловского стрелка второй степени, она готовилась уйти на фронт снайпером…
Упор – лежа, локти в землю вросли, выдох… Сердце отсчитывает время без воздуха.
– Одна, две, три… Стрелять лучше на пятой секунде.
Мушка ловит ненавистную физиономию немецкого летчика… Палец жмет на курок, и пулю за пулей посылает она в перекрестие мишени.
Элеонора никогда не промахивалась.
Не смогла она приблизить Победу с винтовкой в руках.
Дети не отпустили ее от себя. Сыновья семи и девяти лет.
Послесловие
Того летуна люфтваффе или другого такого же охотника до человечьей крови карма настигла спустя три месяца. Но я все же думаю, что именно того самого, что расстреливал в поле Элеонору.
В октябре сорок первого другая женщина-подполковник медслужбы застрелила немецкого летчика.
Та женщина-подполковник сопровождала состав с ранеными красноармейцами, когда налетел «Юнкерс» и накрыл поезд бомбами…
Сбросив бомбы, немец долго кружил над горящей землей и расстреливал раненых.
Те, что выжили, навсегда запомнили то лицо и гадостную улыбку за стеклом кабины самолета.
Ночью в госпиталь привезли сбитого немецкого летчика.
Женщина-подполковник узнала его и приговорила без суда и следствия к высшей мере. Будучи при оружии, она привела приговор в исполнение той же ночью.
Пуля – в лоб, через подушку.
Давний товарищ мой, внук женщины, спровадившей в ад немецкого летчика, рассказал мне, как это было.
Рассказал совсем недавно, два года назад.
История моей бабушки наконец получила законный и в высшей степени справедливый финал.
И я точно знаю, что Элеонора была бы удовлетворена.

Николай РУЧКА
Родился в Харьковской области, окончил в 1961 г. Сумское артиллерийско- техническое училище им.М.В.Фрунзе, прослужил в армии 33 года – от курсанта до полковника, затем окончил в 1975 г. Московский институт радиотехники и автоматики (МИРЭА). На «гражданке» 15 лет работал в Губернском колледже – мастером производственного обучения автомехаников. Посетил 14 европейских стран, написал 18 книг о жизни человека на Земле и фантастических полётах россиян на планеты Вселенной. Написал более 100 картин маслом. Награждён дипломами с вручением медалей Ф.М.Достоевского, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина за литературные произведения, награждён Ака-демией художников России бронзовыми и серебряными медалями за картины и книги по результатам Международных конкурсов. Член Союза писателей и профессиональных художников России, член Международной Академии современных искусств.
Родился в Харьковской области, окончил в 1961 г. Сумское артиллерийско- техническое училище им.М.В.Фрунзе, прослужил в армии 33 года – от курсанта до полковника, затем окончил в 1975 г. Московский институт радиотехники и автоматики (МИРЭА). На «гражданке» 15 лет работал в Губернском колледже – мастером производственного обучения автомехаников. Посетил 14 европейских стран, написал 18 книг о жизни человека на Земле и фантастических полётах россиян на планеты Вселенной. Написал более 100 картин маслом. Награждён дипломами с вручением медалей Ф.М.Достоевского, Ф.И.Тютчева, С.А.Есенина за литературные произведения, награждён Ака-демией художников России бронзовыми и серебряными медалями за картины и книги по результатам Международных конкурсов. Член Союза писателей и профессиональных художников России, член Международной Академии современных искусств.
БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
Наступила осенняя пора, один из красивейших периодов года. Деревья, как свадебные невесты, наряжаются яркими красками и в своей сказочной красе дарят людям радость, перед тем как на длительный срок уйти в зимнюю спячку.
И как раз в это время мне выпала командировка в Североморск. Я решил ехать поездом, чтобы из окна увидеть красоты Крайнего Севера. Какой это удивительный край – я воочию убедился в 2023 году, побывав в туристической поездке по Карелии. Свои воспоминания я изложил в отдельном рассказе. Я не смог забыть об одной встрече с человеком удивительной судьбы – участником Великой Отечественной войны.
Эта встреча произошла случайно во время следования в командировку на поезде Москва – Мурманск в г. Североморск.
Я никогда в жизни не опаздывал. Так как заранее приходил к месту отправления поезда или вылета самолёта с аэровокзала. И как всегда, я зашёл в купе поезда первым. Разместившись в купе, я сел у окна и стал ожидать своих попутчиков. Через некоторое время в купе «завалился» на костылях громадного роста человек. Громадный рост более двух метров подтверждал его вход в купе боком, так как его широкие плечи не позволяли зайти прямо.
Оказалось при знакомстве, что зовут его Игорем Николаевичем и едет он на встречу с боевыми товарищами в Мурманск. Во время беседы с ним я полюбопытствовал, где он потерял ногу. Он с удовольствием согласился рассказать о необыкновенных приключениях на фронте в том числе и как потерял ногу.
– Это случилось осенью в 1942 года под Ленинградом. Мы, моряки Северного флота, в одной из атак на немца по традиции сменили каски на бескозырки. Пробежав около сотниметров, я почувствовал сильный удар в голову и сразу же повалился на землю. Я смог только осознать, что меня убили. Но через какое-то время я пришёл в себя. Убедившись, что крови нигде нет, только сильно болит голова и меня качает из стороны в сторону. Я потихоньку поплёлся за своими товарищами, возвращающимися после удачной атаки. Меня окружили и стали спрашивать, что со мной случилось. Ну что я мог внятно ответить. Побежал как все, а потом упал от сильного удара по голове и всё, а сейчас очень сильно болит голова.
Потом один из матросов, глядя на меня говорит:
«Да вы посмотрите на его бескозырку? У него на бескозырке расплющена звезда». Оказалось, пуля срикошетила каким-то образом от моей звезды, оставив углубление во лбу на голове. С тех пор и существует эта вмятина. Жаль, что не оставил тогда памятную звезду. Пролежав с головным сотрясением некоторое время, я снова оказался на фронте.
– А где же Вы потеряли ногу.
– В бою под Кёнисбергом меня сильно ранили. А случилось это следующим образом. В одном из боёв моряки пошли в рукопашную с немцами. При этом, согласно традиции, при рукопашном сражении не должно применяться огнестрельное оружие. Немцы, как будто были подобраны для рукопашного боя.
Такие здоровенные, но мы оказались сильнее. Двух немцев я схватил в охапку и стукнул сильно лбами так, что они повалились без чувств на землю.
Один из немцев находившихся рядом, не сдержался и, выхватив свой «шмайзер»(т.е. автомат) из-за спины и стреляя метров с десяти, провёл автомат сверху донизу. Очнулся я в военном госпитале. Мне опять повезло, так как из восьми пуль семь попали в ногу. Ногу хирургам не удалось спасти, и мне её до паха ампутировали. Вот такие истории приключились со мной, навеки оставив отметины.
Мы всю ночь проговорили о войне, но эти два эпизода сильно затронули меня, и я их надолго запомнил. При следовании на поезде я так заслушался рассказом собеседника, что мне не всегда удавалось смотреть пейзажи Крайнего Севера. И все же я запомнил красивейшие леса в осеннем убранстве, которые приближаясь к Мурманску становились низкорослыми.
Северный край со своим климатом делал своё дело. При приближении поезда к Мурманску мой собеседник засуетился. Причиной была его встреча на перроне с боевыми товарищами через 30 лет. Я помог Игорю Николаевичу выйти из вагона, где его ожидали однополчане, многие из которых были с женами. В знак такого события солнце светило радостными бликами теплоты и приветствия. Мы распрощались, и я в это мгновение как будто бы ощутил ласку моего отца, который не успел меня приголубить.
Хотелось бы еще рассказать об еще одном эпизоде, связанном с получением высокой награды в Великую Отечественную войну.
Однажды я отчима спросил (отец в 1941 году погиб под Белой церковью Киевской области):
– За что вы получили орден Красной звезды?
– А можно сказать случайно. Наша дивизия остановилась в Прибалтийском лесу для отдыха. Командир дивизии вызвал нас, артиллерийских разведчиков в свой штаб и дал задание:
– Сержант Дышкант, возьми двух разведчиков и найди нашего повара с кухней, куда он запропастился, пора уже обедать.
Верхом на лошадях мы вскоре нашли нашу кухню. Оказалось, она застряла в грязи, и повар со своим помощником не могли выбраться. Мы быстро вытолкали кухню из грязи и стали возвращаться в расположение дивизии. Был очень большой туман. Мы молчали почти всю дорогу, как вдруг увидели впереди в маскхалатах немцев, перебегающих лесную тропу. Их было очень много, мы так были ошарашены, что не смогли толком посчитать, ну где-то полсотни было и больше. После того как немцы исчезли, мы тронулись в расположение нашего подразделения. Командование дивизии не было заранее предупреждено о высадке немецкого десанта. Наша информация сыграла большую роль от трагического нападения немцев на нашу дивизию. За это всех нас командир представил к награждению орденами Красной звезды.
Особенно рад был повар:
– Я бы никогда не получил бы такую награду, если бы не вы, – благодарил разведчиков повар.
Вот такие истории случались на войне.
В заключение своей публикации хотел бы привести здесь мое стихотворение, написанное под впечатлением недавно увиденных раненых, безногих мальчишек в Солнечногорском санатории после их прибытия со специальной военной операции на Украине.
Англосаксы в шкуре шакала
Стелется туман от разрывов снарядов и ракет,
И тысячи убитых и искалеченных тел.
Что же вы творите, проклятые люди!
Неужто нелюди у вас живут?
Жалко смотреть на безногих мальчишек,
На лицах, которых застывшая грусть.
И лишь родители оплакивают
Судьбу, искалечившую души ребят.
Может, инопланетяне заселили вас.
И вы не люди, а шакалы.
Сколько же злобы и зависти
У вас, англосаксов, осталось.
Под видом открытия Америки
Вы уничтожили миллионы людей.
Уничтожили население майи,
Превратив африканцев в рабов.
Звериный оскал шакалов
Постоянно гуляет по планете
И под видом НАТО вы уже Европу
Превратили в злобных шакалят России.
Англосаксы, никак не уймётесь,
Что есть суверенная Россия.
И вам никак не завоевать её,
Как бы вам этого хотелось.
Но никогда вам не победить
Русского народа,
Потому что вы – шакалы по жизни.
И все вы скованы дьявольским долларом.
Забудьте мечту об уничтожении России.
Вас ждёт агония смерти ваших душ в аду.
На необитаемых планетах Вселенной.
Возможно, стихотворение получилось не совсем поэтическим, но идею и смысл я считаю правильными.
Наступила осенняя пора, один из красивейших периодов года. Деревья, как свадебные невесты, наряжаются яркими красками и в своей сказочной красе дарят людям радость, перед тем как на длительный срок уйти в зимнюю спячку.
И как раз в это время мне выпала командировка в Североморск. Я решил ехать поездом, чтобы из окна увидеть красоты Крайнего Севера. Какой это удивительный край – я воочию убедился в 2023 году, побывав в туристической поездке по Карелии. Свои воспоминания я изложил в отдельном рассказе. Я не смог забыть об одной встрече с человеком удивительной судьбы – участником Великой Отечественной войны.
Эта встреча произошла случайно во время следования в командировку на поезде Москва – Мурманск в г. Североморск.
Я никогда в жизни не опаздывал. Так как заранее приходил к месту отправления поезда или вылета самолёта с аэровокзала. И как всегда, я зашёл в купе поезда первым. Разместившись в купе, я сел у окна и стал ожидать своих попутчиков. Через некоторое время в купе «завалился» на костылях громадного роста человек. Громадный рост более двух метров подтверждал его вход в купе боком, так как его широкие плечи не позволяли зайти прямо.
Оказалось при знакомстве, что зовут его Игорем Николаевичем и едет он на встречу с боевыми товарищами в Мурманск. Во время беседы с ним я полюбопытствовал, где он потерял ногу. Он с удовольствием согласился рассказать о необыкновенных приключениях на фронте в том числе и как потерял ногу.
– Это случилось осенью в 1942 года под Ленинградом. Мы, моряки Северного флота, в одной из атак на немца по традиции сменили каски на бескозырки. Пробежав около сотниметров, я почувствовал сильный удар в голову и сразу же повалился на землю. Я смог только осознать, что меня убили. Но через какое-то время я пришёл в себя. Убедившись, что крови нигде нет, только сильно болит голова и меня качает из стороны в сторону. Я потихоньку поплёлся за своими товарищами, возвращающимися после удачной атаки. Меня окружили и стали спрашивать, что со мной случилось. Ну что я мог внятно ответить. Побежал как все, а потом упал от сильного удара по голове и всё, а сейчас очень сильно болит голова.
Потом один из матросов, глядя на меня говорит:
«Да вы посмотрите на его бескозырку? У него на бескозырке расплющена звезда». Оказалось, пуля срикошетила каким-то образом от моей звезды, оставив углубление во лбу на голове. С тех пор и существует эта вмятина. Жаль, что не оставил тогда памятную звезду. Пролежав с головным сотрясением некоторое время, я снова оказался на фронте.
– А где же Вы потеряли ногу.
– В бою под Кёнисбергом меня сильно ранили. А случилось это следующим образом. В одном из боёв моряки пошли в рукопашную с немцами. При этом, согласно традиции, при рукопашном сражении не должно применяться огнестрельное оружие. Немцы, как будто были подобраны для рукопашного боя.
Такие здоровенные, но мы оказались сильнее. Двух немцев я схватил в охапку и стукнул сильно лбами так, что они повалились без чувств на землю.
Один из немцев находившихся рядом, не сдержался и, выхватив свой «шмайзер»(т.е. автомат) из-за спины и стреляя метров с десяти, провёл автомат сверху донизу. Очнулся я в военном госпитале. Мне опять повезло, так как из восьми пуль семь попали в ногу. Ногу хирургам не удалось спасти, и мне её до паха ампутировали. Вот такие истории приключились со мной, навеки оставив отметины.
Мы всю ночь проговорили о войне, но эти два эпизода сильно затронули меня, и я их надолго запомнил. При следовании на поезде я так заслушался рассказом собеседника, что мне не всегда удавалось смотреть пейзажи Крайнего Севера. И все же я запомнил красивейшие леса в осеннем убранстве, которые приближаясь к Мурманску становились низкорослыми.
Северный край со своим климатом делал своё дело. При приближении поезда к Мурманску мой собеседник засуетился. Причиной была его встреча на перроне с боевыми товарищами через 30 лет. Я помог Игорю Николаевичу выйти из вагона, где его ожидали однополчане, многие из которых были с женами. В знак такого события солнце светило радостными бликами теплоты и приветствия. Мы распрощались, и я в это мгновение как будто бы ощутил ласку моего отца, который не успел меня приголубить.
Хотелось бы еще рассказать об еще одном эпизоде, связанном с получением высокой награды в Великую Отечественную войну.
Однажды я отчима спросил (отец в 1941 году погиб под Белой церковью Киевской области):
– За что вы получили орден Красной звезды?
– А можно сказать случайно. Наша дивизия остановилась в Прибалтийском лесу для отдыха. Командир дивизии вызвал нас, артиллерийских разведчиков в свой штаб и дал задание:
– Сержант Дышкант, возьми двух разведчиков и найди нашего повара с кухней, куда он запропастился, пора уже обедать.
Верхом на лошадях мы вскоре нашли нашу кухню. Оказалось, она застряла в грязи, и повар со своим помощником не могли выбраться. Мы быстро вытолкали кухню из грязи и стали возвращаться в расположение дивизии. Был очень большой туман. Мы молчали почти всю дорогу, как вдруг увидели впереди в маскхалатах немцев, перебегающих лесную тропу. Их было очень много, мы так были ошарашены, что не смогли толком посчитать, ну где-то полсотни было и больше. После того как немцы исчезли, мы тронулись в расположение нашего подразделения. Командование дивизии не было заранее предупреждено о высадке немецкого десанта. Наша информация сыграла большую роль от трагического нападения немцев на нашу дивизию. За это всех нас командир представил к награждению орденами Красной звезды.
Особенно рад был повар:
– Я бы никогда не получил бы такую награду, если бы не вы, – благодарил разведчиков повар.
Вот такие истории случались на войне.
В заключение своей публикации хотел бы привести здесь мое стихотворение, написанное под впечатлением недавно увиденных раненых, безногих мальчишек в Солнечногорском санатории после их прибытия со специальной военной операции на Украине.
Англосаксы в шкуре шакала
Стелется туман от разрывов снарядов и ракет,
И тысячи убитых и искалеченных тел.
Что же вы творите, проклятые люди!
Неужто нелюди у вас живут?
Жалко смотреть на безногих мальчишек,
На лицах, которых застывшая грусть.
И лишь родители оплакивают
Судьбу, искалечившую души ребят.
Может, инопланетяне заселили вас.
И вы не люди, а шакалы.
Сколько же злобы и зависти
У вас, англосаксов, осталось.
Под видом открытия Америки
Вы уничтожили миллионы людей.
Уничтожили население майи,
Превратив африканцев в рабов.
Звериный оскал шакалов
Постоянно гуляет по планете
И под видом НАТО вы уже Европу
Превратили в злобных шакалят России.
Англосаксы, никак не уймётесь,
Что есть суверенная Россия.
И вам никак не завоевать её,
Как бы вам этого хотелось.
Но никогда вам не победить
Русского народа,
Потому что вы – шакалы по жизни.
И все вы скованы дьявольским долларом.
Забудьте мечту об уничтожении России.
Вас ждёт агония смерти ваших душ в аду.
На необитаемых планетах Вселенной.
Возможно, стихотворение получилось не совсем поэтическим, но идею и смысл я считаю правильными.